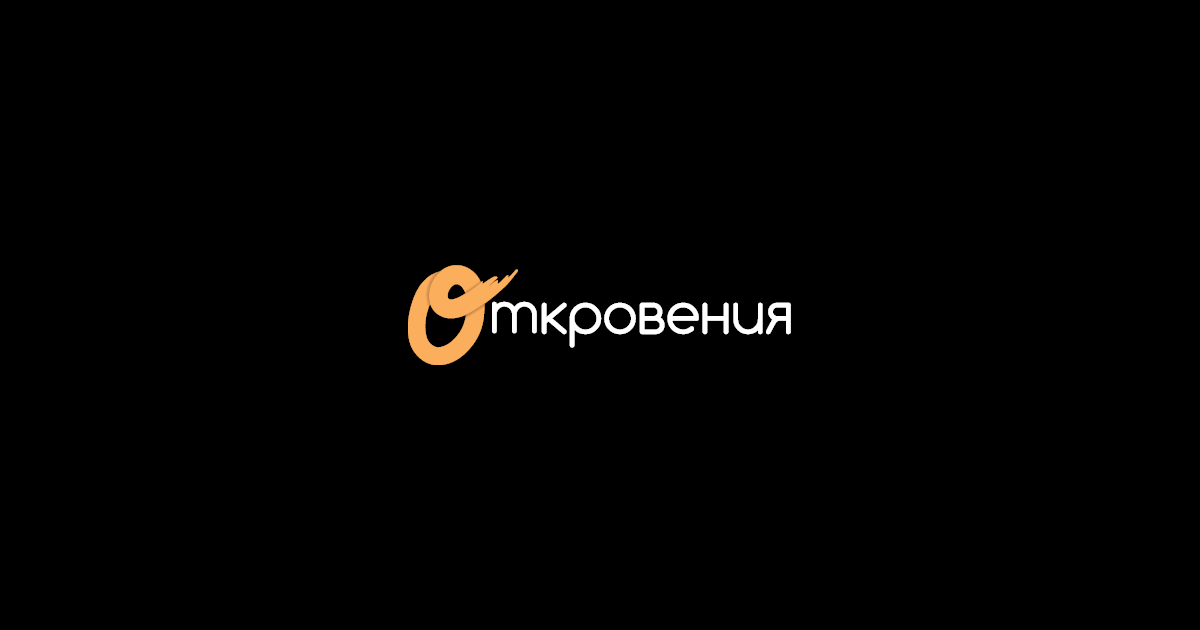(1) Истина и измислица, книга 6 - Съкровищата на Валкирия. Сергей Алексеев
Сергей Алексеев
Съкровищата на Валкирия VI
Истина и измислица
Анотация
В продължение на десетилетия читателите питат Сергей Алексеев: наистина ли съществува Валкирия, реални ли са събитията, които се случват в неговите романи?
Новата книга дава отговори на почти всички въпроси.
Като дете, когато авторът е лежал болен, и е бил близо до смъртта, е спасен от непознат човек, владеещ шамански способности. След това, в живота на Алексеев започват да се случват странни събития. В него се появява стремеж към следните неща:
- да стигне до планината Манарага, намираща се в северната част на Урал;
- да открие подземната цивилизация на гоите-хиперборейци;
- да улови на златната рибка вальок;
- да се запознае с Валкирия.
Авторът почти успява да постигне целта си, среща се и с Валкирия. Тук се крие най-голямата тайна...
Вальок - златната рибка
През февруари 1957 г. умирахме с дядо: той от тежки рани, получени на фронта, а аз - от неизвестна и непонятна болест. Половината от белите дробове на дядо бяха отнети в болницата, другата половина се беше подула и му оставаше много малко до смъртта, но поради силното си и мощно сърце той се справяше със задушаването и понякога дори започваше да ми говори с весел, накъсан шепот. Аз пък лежех в леглото като парализиран, загубил силата на говоря, не мърдах, не изпитвах никаква болка, може би защото бях леден и по думите на майка ми се топех като пролетна ледена висулка. В същото време ясно виждах, чувах и чувствах всичко, което се случваше наоколо.
Дядо беше свикнал да умира, но аз все още не знаех какво е това, така че двамата лежахме хладнокръвно и чакахме последния си час. Хладнокръвно в буквалния смисъл, защото температурата ми беше падна до тридесет и четири градуса. Баба коленичеше ден и нощ пред иконите в стаята, където беше дядо ми, но се молеше за мен и дали от отчаяние, или от незнание, молеше бога да остави внук ѝ, и да прибере дядото. Нещо повече , обръщаше се към него без всякакъв страх, по свойски, сякаш със съседа разговаряше. Баща ми беше постоянно облечен с кожуха си, яздеше на кон нанякъде, търсейки лекари, но се връщаше сам и силно псуваше; майка ми, ако не се суетеше с домакинската работа и не кърмеше братята близнаци (сестра ми ходеше вече на училище и живееше на квартира в Торба, на седем километра), сядеше до моето леглото, топлеше ръцете ми и после се криеше някъде и плачеше. Никой не знаеше колко ни остава да живеем, докато баща ми най-после не доведе отнякъде фелдшер,една едра, румена лелка. Тя погледна в устата ми, в очите, обърна ме от една страна на другата, като труп, измери ми температурата.
- Не му остава много време, - сякаш утешаваше родителите ми тя. – Студен е, с такава температура хората не живеят. Тя дори не докосна дядо, само го погледна отдалеч.
„Няма да изтрае и до вечерта“, определи му тя срок. – Всеки момент ще се отмъчи.
Тя изписа смъртни актове и за двама ни. Направи това, за да не изминва отново четиридесет и пет мили през февруарската снежна буря.
По това време родителите ми все още безразсъдно вярваха в медицината и след такова заключение в къщи веднага стана тихо, говореха шепнешком, но аз чувах всичко. Майка се готвеше да бяга в Торба за сестра ми и до чичо Саша Русинов, за да съобщи на близките ни. Той беше образован, беше началник на горския участък и имаше единствен телефон в кабинета си.
- Нищо, Серьога. - високо каза дядо, когато татко тръгна с фелдшера да я върне. - Скоро идва пролетта, реката ще се резлее. Ще отидем на риба с теб. Ще хванем рибата вальок. Знам място където кълве.
Отдавна говореше той за някаква невиждана риба, която щеше да хване в нашата река Чет, търсеше място къде се намира, но така и не я улови. И никой в нашия район рибата вальок не само, че не беше хващал, но дори не беше чувал. Дядо обичаше да говори за тази риба, но само когато бяхме сами в лодката, някъде под стръмен бряг, далеч от чужди уши, и винаги ме предупреждаваше да си затварям устата. Според него вальокът се отличава от другите риби не по размери, красота или вкус, а по това, че когато навърши определена възраст, веднъж в живота си плува по реките от океанските дълбини, за да се нагълта с парченца злато. Тази риба познава добре всички реки, потоци и течащи езера, където има злато, и ако я бъде хваната някъде, там можеше да се търси злато. Освен това, от нищо не може да бъде спряна тя - нито от бързеи, нито от високи водопади, нито от плитчини, само да има вода 3-4 сантиметра, и тя минава и прескача навсякъде. Навлизайки в реките през студените северни морета в търсене на злато, тя се издига до самите Саяни и Алтай. Случва се да бъде хванат вальока дори в планински потоци на много хиляди километри от морето. И след като погълне достатъчно злато, тази риба се спуска и се връща в океаните, където живее до смъртта си на страшна дълбочина, и не може да се хване с никаква мрежа.
Ето това е приказната златна рибка!
Ако бъде хванат вальок и се разтвори стомаха му, в него може да се намери до шепа самородно злато.
Дядо обясняваше пристрастяването на тази риба към благородния метал не с алчност, както се случва с хората, а с жестока необходимост: златото служеше като баласт, за да се спусне тя после на дъното на океана за някаква специфична храна. Рибата не била голяма по размер, точно четиридесет сантиметра, като по стандарт, и теглото ѝ не било голямо, до два килограма, така че не могла да слезе надълбоко без допълнителна тежест. А ако тя не яде тази храна, не може да хвърля хайвера си, тоест да се размножава. Така че, колкото повече злато има в стомаха, толкова по-дълго вальокът може да остане на дъното, да се храни и да удължава вида си. Някои риби обаче лакомо поглъщали толкова големи късове злато, че не можели да изплуват нагоре и умирали от високото налягане.
Дядо ми не беше наивен мечтател, той никога не се тешеше с нереални надежди, а по-скоро принадлежеше към реалистите и прагматиците, защото живееше суров живот, но в същото време без да губи естественото си любопитство. Разчиташе да хване вальока по чисто практически съображения: смяташе да предаде намереното злато на държавата и с получените пари, двадесет и пет процента, - да купи мотоциклет на баща ми - нито лова, нито риболова, нито бъчварството можеха да осигурят пари за него. Факт е, че веднъж той се разболя много, и чичо Саша Русинов го закара на мотоциклет до болницата. Веднага щом се понесоха на тази двуколесна чудодейна техника, дядо ми спря да се задъхва, буквално оживя, седеше на задното седло, смееше се и пееше, а когато пристигнаха в болницата, нареди да се връщат обратно.3
Той смяташе мотоциклета за лечебно средство.
Вечерта дядо не умря, но аз се почувствах още по-зле. Въпреки това не чувствах никакви болки. Оказа се, че очите ми са били затворени и почти не съм дишал, което не бях забелязал. Струваше ми се, че навън е пролет, реката е придошла и се е разширила, а ние с дядо седим под високия бряг в издълбана ниша и ловим рибата вальок.
Добре ни беше и страшно, защото водата наоколо прииждаше и се въртеше в дълбоки фунии. Бях на риба и в същото време чувах и сякаш виждах какво се случва наоколо. Вечерта дойдоха моите кръстници - чичо Анисим и леля Поля Рижови, единствените ни съседи: селото се състоеше само от две къщи. Те седнаха до мене и изглежда седяха така цяла нощ.
Около три месеца преди да се разболея имах ужасно желание за сол и започнах да ям по цели шепи от нея. Родителите ми забелязаха това, отначало дори се смееха, после ми се скараха и скриха солницата - започнах да крада. Първо от чувала в старата къща, но когато и него го скриха, от яслите на кравите, където лежеше огромен сив камък сол. Вземах чук, промъквах се в кошарата, чупех парчета сол и ги смучех като близалка. Все още помня този невероятен и привлекателен вкус; Никога не съм ял нищо друго с такава алчност и страст, нито в детството, нито по-късно. Скоро ме хванаха на местопрестъплението в краварника, «сергията» се затвори и тогава започнах да ходя при кумицата.
Леля Поля тайно ми насипа една малка синя купичка и това беше превъзходно лакомство за мен. Но чичо Анисим видя - и строго забрани да ми се дава сол.
Бях сигурен, че това е единствената причина да се разболея. И за да се излекувам беше нужно да ми се даде само шепа сол. Но никой не знаеше за това и като започнех да моля за сол и да казвам, че само солта ще ми помогне, никой не вярваше - болно дете, не знае какво говори...
Леля Поля седеше до леглото ми и исках да я помоля за поне едно кристалче сол, но езикът ми отдавна не се движеше и нямах глас, а те сами не се досещаха какво ми е нужно.
Така доживях до сутринта когато на изгрев слънце бурята утихна за малко, и се яви този човек. В началото само го чух да говори - тих, звучен глас, който обясняваше на баба, че не му е студено, въобще не мръзне и няма да пие чай. Той беше облечен странно: бяла копринена риза с колан и дрънкулки, а отгоре имаше голям разкопчан кожух от овча кожа. На краката му бяха обути, за студ и вятър, тесни червени хромирани ботуши!
Живеехме на границата на две области, на единствения в този район път, и той беше зимен път, конен. Минувачите идваха у нас да се погреят и затова имаше винаги готов самовар или в поне чайник.
Обикновено пътешествениците сваляха кожусите и филцовите си ботуши (за да стоплят по-бързо краката си), сядаха до печката, мама им наливаше шипков чай с мед и им подаваше горещите чаши.
Този пътник дори не седна да си почине от пътя, въпреки че беше ходил пеш, просто си свали шапката, хвърли овчия тулуп в ъгъла и сякаш веднага разбра, че някой умира в къщата. Бащата още не се беше върнал и затова баба, като главна в къщата, посрещна предпазливо този странен гост и отначало като че се опита да прикрие семейната мъка. Пътникът обаче влезе в стаята без да пита и се наведе над мене. При това толкова ниско, че усетих лицето му над моето и отворих очи.
Най-вероятно това беше старец, спомням гъстата му, силна, сякаш от тел, и напълно бяла брада с големи мустаци, и дълга, силно прошарена коса, но на мен до ден днешен ми се струва, че той не беше старец и въобще стар човек. Не запомних лицето и чертите му, или те после се изтриха от съзнанието ми; остана само някакъв образ – орлов, плашещ и същевременно завладяващ. Той се изправи и потропвайки с пръчката си по пода, отново без разрешение, влезе в стаята на дядо, затваряйки вратата след себе си по делови начин.
Майка ми и баба ми сигурно се бяха уплашили, нищо не му казаха, но се зарадваха, че отворих очи. Застанаха до леглото ми, викаха ме по име, молеха ме да кажа нещо, но самите те поглеждаха настрани към вратата на дядовата стая, споглеждаха се тревожно, а пътникът все не излизаше. Представата ми за време беше изкривена, осъзнавах само ден и нощ и не можах да забележа колко време непознатият е бил при дядо. Майка ми каза по-късно, че е изкарал там около три часа, а на мене ми се струваше, че той само влезе и веднага излезе. Никой не видя какво прави там, и не смееше да надникне в стаята дори и моята смела и властна баба, която се страхуваше този минувач да не открадне нещо и да излезе през прозореца. В нашия край имаше много крадци и разбойници, защото околните дърводобивни села бяха пълни с наети работници и сибулонци - затворници, лежали някога в затвора и заселили се по селата. Въпреки това тя не смееше дори да надникне да види какво става в стаята, а само мърмореше:
- Какво е това, а? Какво си шепнат там, дяволите? Може би са познати?.. И Семьон не се обажда... Дано да не му направи нещо лошо. Очите му са черни, цигански.
Дядо ми се казваше Семьон Тимофеевич...
Когато най-после гостът излезе, веднага започна да командва.
- Съберете ги заедно. В една стая!
- Ама няма да е добре така - възрази бабата. - Детето не трябва да гледа как дядо му умира...
„Той няма да умре“, каза непознатият. - А заедно ще им бъде по-лесно да се борят. Преместете момчето в гостната стая!
Майка ме вдигна заедно с одеялото, пренесе ме и ме постави на леглото на баба, срещу дядо. Бях щастлив, исках да го извикам, но не можах. Забелязах обаче, че дядо стана по-весел.
- Добре, ще се здрависаме после. – рече той. - Като станем по-силни.
Непознатият развърза торбата си, извади от там една кесия и оттам изсипа не тютюн, а малка шепа сол на едри кристали.
- Хайде, отваряй уста! – нареди той. – Но само не гълтай.
След секунда устата ми беше пълна със сол! Стиснах зъби, за да не ми вземат солта, защото баба беше направила вече строга физиономия и започна:
- Какво му даде, лешак*? (*лешак – от леший – горски дух, бел. прев.)
- Дадох му сол — каза пътникът, като ме наблюдаваше. - Ако искаш вода, кажи.
Не бях пил вода от няколко дни...
- Как е възможно да се даде толкова много сол на едно дете? – възмути се баба и тръгна към мен.
- Може, щом иска. Не виждаш ли, че втори месец е виелица, слънце няма, как може да се живее без сол?
- Къде се чуло-видяло такова нещо?...
- Искаше ли момчето сол?
- Искаше, а добре ли е това...
- Добре е! Но не му дадохте! Ох, пълен мрак... Детето знае какво иска. И по-добре от вас!
- А ти какъв си? Лекар ли си?...
- Лекар съм, и пекар! - озъби се пътникът. - Болестта е напреднала, детето е изтощено, сега само със сол не може да се мине. Тялото трябва да се лекува!
Жилата* му е изсъхнала. (*има се предвид системата от канали, по които циркулира жизнената енергия в човешкото тяло, бел. прев.)
Междувременно изсмуках цялата сол, приближих ръка до устата си и показах, че съм жаден.
- Какво показваш? - попита строго пътникът. - Какво искаш? Ако искаш вода, кажи.
- Жаден съм! – неочаквано за себе си успях да изрека.
- Ето! А аз си мислех, че си си глътнал езика! - пошегува се той. - Хайде, дайте вода на момчето!
Майка ми започна да ме пои с лъжица и баба видя, че мърдам и говоря. Сега тя най-накрая задобря към пътника и се предаде.
- Как да лекуваме тялото?
- Как да лекуваме... Ще трябва да се потича.
- Ще потичаме, щом трябва.
- Хайде, покажи ми животните! - внезапно нареди пътникът.
Баба облече овчия си кожух и покорно го поведе на двора.
Обикновено придирчива и упорита, сега тя беше готова на всичко и дори не попита чуждака защо има нужда от нашия добитък (не го показваха особено на непознати, страхуваха се от магьосници, които можеха да развалят кравата - млякото ѝ да пресъхне или не се отели).
Скоро се върнаха, гостът беше озадачен.
- Не става. Имаме нужда от червен бик.
- От къде да го взема? – изпъшка баба. - Не съм виждала никога червен бик...
- Не знам, помислете, спомнете си, потърсете. Трябва да е червен, без нито едно петънце. В противен случай момчето няма да се изправи на крака и ще си остане да лежи.
Чувах как майка и баба започнаха да си спомнят къде, и какъв цвят крави има по селата и все се получаваше да са само червено-шарени. А пътникът продължи да говори за червен бик и ги караше да мислят. Накрая майка си спомни, че в Чарочка Голохвастови имат червена крава и че уж тя е без петна. И е възможно да имат миналогодишен бик?
- Синът го няма, кой ще отиде? - баба се натъжи. - А до Чарочка са двайсет мили...
- Тръгвай ти да го доведеш! - заповяда пътникът. - Ако искаш внукът ти да проходи, върви.
Тя започна да се приготвя, но размисли и изпрати майка ми - страхуваше се навярно да остави на нея къщата и болните. Майка се облече, погледна в стаята и ме погали по косата.
- Скоро ще се върна, Серенка, имай търпение...
Междувременно баба, тайно от от непознатия, извади от сандъка стария меден чайник, в който бяха парите (спестявахме за мотоциклет), извади всичко, което от него, дори дребните пари, даде ги на майка, започна да плаче и прошепна:
- Ох, страх ме е от него, виж само как гледа. Не знам за добро ли е дошъл или за лошо. Но какво да правим? О-о-ох... Е, тръгвай с бога, да става каквото ще...
Майка ме целуна и тръгна.
- И внимавай да не вземеш шут* бик! - каза след нея пътникът. - Трябва да има рога. (* Говедо с повредени рога, или без рога, бел. прев.)
- Боже мой! – само ахна баба. - Трябва и рога да има ...
И майка тръгна да търси червен бик. Толкова много ни обичаше тя, че ако ѝ бяха казали да доведе зелен бик, щеше да го намери и да го доведе. А пътникът влезе в стаята с дебело дърво от печката, хвърли го вместо възглавница, легна на пода и захърка. Баба не можа да устои, приближи се на пръсти до леглото на дядо, събуди го и дълго му шепна нещо, като поглеждаше към непознатия.
- Тръгвай, тръгвай, - каза ясно дядо. - И не говори глупости. Защо ме събуди? Сънувах хубав сън, Карна ме посети.
Тогава не знаех още коя е - Карна, но баба знаеше това име, защото веднага се нацупи и сърдито зафуча.
- Добре, стига - измърмори дядо. - Бик намерихте ли?
„Изпратих Валя в Чарачка, призна баба. - Дадох ѝ всичките пари...
- Защо?
- Ами ако е някакъв разбойник? Трофим го няма, ще ни избие, и ще изчезне. Само го погледни какъв е, истински лешак*, а как гледа страх ме обхваща. Какво каза? Не пускайте непознати в хижата, иска да каже - никой да не ме види тук. И на никого не казвайте нито дума за мен!... Защо му е нужно да не го видят и чуят? О, замислил е нещо лошо лешакът... (* лешак от леший – значи нещо като горски демон, бел. прев.)
- Не е разбойник той, - разсъди дядо. - И не лешак.
- Е, тогава скитник или затворник...
- Не е и скитник. Той е от друга порода хора. Слушайте го и не му противоречете.
На баба и това не ѝ хареса, и поради характера си не можа да се съгласи и да премълчи.
- Една порода са те: ходят и гледат само какво да вземат, - нарочно произнесе тя тези думи високо и тръгна, но пътникът не се събуди.
Баща ми откара фелдшерката и си дойде малко пиян, нахлу в стаята направо с тулупа си от овча кожа и хвана дланите ми с горещите си ръце.
- Жив ли си, бродяга...
**
И едва тогава видя непознатия.
Баща ми беше човек избухлив и дори краен, когато някой го разгневеше. Самият той не налиташе на кавга, но ако бъде предизвикан, дръж се тогава, битката ще бъде до смърт. Може би затова баща ми беше смятан за смел и дързък човек, въпреки че в действителност той не мислеше себе за такъв и неведнъж съм бил свидетел как проявяваше чудеса от смирение, за да не влезе в ръкопашен бой.
А сега той изведнъж стана плах, объркан, и дори не се приближи до пътника, не попита нищо (защо този непознат спи в стаята?), само го погледна внимателно и едва ли не избяга. Чух ги как си шепнат с баба, но в същото време гладните ми братя близнаци ревяха, така че нищо не разбрах. После стана ясно, че бащата ми е разпрегнал изморения кон, вкарал го е в кошарата, и със ските е тръгнал в Яранск да търси червен бик, защото само там е имало говеда с подобен цвят.
Каза, че миналата година самият той е видял едногодишен бик у Пивоварови и е бил очуден колко червен и ярък е той.
Баща ми беше ходил на училище само четири години и дори не е служил в казармата заради лявата си ръка, която е била обгорена по време на детството му и осакатена, но въпреки цялата си привидна неграмотност, през целия си живот е обичал знанието, четеше много и искрено вярваше в науката. Особено след като преди година в космоса беше изстрелян първия изкуствен спътник. Спомням си добре как тогава той не спа няколко нощи, тичаше под звездното небе и пречеше на другите да спят, викаше, скачаше, смееше се, а след това свиреше на акордеон и провокираше майка ми - казваше, че празнува празника на човечеството, а баба въздишаше: казвайки така все едно - в баща ми бес се е вселил. Той се отнасяше с насмешка към всякакво магьосничество и смяташе хората, които вярват в това за глупаци. Затова беше странно - какво се случило с него, щом се втурна да търси червен бик.
Майка се върна след ден късно през нощта с празни ръце; оказа се, че е обходила няколко села, стигнала до областния център почти, прегледала е петдесет бика, на хората и на колхоза, но такъв бик, какъвто искаше пътникът е нямало никъде. Била е посъветвана да отиде в Черни Яр, в друг район, където уж са видяли напълно червено теле, но не се знае дали е бик или юница. И сега майка дотича да види какво става у дома, да си поеме дъх, и да продължи да търси.
Пътникът спа през цялото това време на пода и накрая се събуди, стана сърдит, отказа да яде, изпи само черпак вода от дървената кофа и започна да ругае майка ми, казвайки: „вие сме невежи и неумни хора, не можете дори един червен бик да намерите.“ И рече, почуквайки с пръст по масата:
— Ако не ми доведете бика до сутринта, ще отида да го намеря сам. Но тогава ще взема момчето ви и ще го отведа със себе си.
Жените се уплашиха, баба веднага впрегна отпочиналия кон и тръгна като в приказката, - накъдето ѝ виждат очите. Майка, навярно беше решила да успокои госта, и сложи бутилка водка на масата, но той решително отказа да пие или да яде, затвори вратата на стаята, така че дядо ми и аз да не чуваме нищо, и започна някакъв разговор с майка ми. Мърмориха дълго, почти до сутринта, докато дойде баща ми.
- В нашия район няма червени бикове! - заключи той и дойде да види дали съм жив.
Неизвестно къде беше ходила баба, но дойде на изгрев слънце и когато я видяха през прозореца, у дома веднага възникна радостна суматоха: зад шейната, вързан, вървеше бик.
- Води! Води бик!
Баща ми и майка изтичаха на улицата, но гостът, казват, дори не погледнал през прозореца, само изсумтя и започна да се приготвя.
- Добре, балъци, седете и чакайте. Тръгвам аз! - каза той, когато всички се върнаха в къщи.
- Защо този да не става? – възмути се и се уплаши баба. - Няма нито едно петънце по него, с рога е, целият е червен!
Толкова пари дадох за него, лешака!
- А това на челото какво е?
- Има звезда на челото! И е много малка!
- Там е работата! - пътникът влезе в стаята и сложи само един кристал сол в устата ми. - Това означава, че бикът е роден през нощта. А трябва да е призори!
Вратата се хлопна и в селската ни къща настана пълна тишина.
Родителите сигурно бяха седнали на масата да се посъветват. Винаги правеха така, когато трябваше да обсъдят нещо важно, но дядо се събуди, прочисти гърлото си и извика баба.
- Не се суетете много, - каза той спокойно, без да се задъхва. - Не можем да намерим бик. Нека той да го доведе.
- Той, лешакът, ще го доведе! – веднага се развълнува баба. - Но Серьожка ще вземе за този бик! Той каза: ако намеря бик сам, ще взема момчето с мен!
- Така или иначе ще го вземат някой ден. Нека го вземе той.
- Как - ще го вземат!?
- Е, като порасне, ще се намери някое момиче и то ще го вземе! - засмя се дядото и се обърна към мен. - Какво искаш? Да се ожениш, или да пътуваш по света?
- Цял живот се скиташ! - избухна тя. - Колко време изкарваш у дома, Лешак? Ту война, ту риболов, ту - грях е да се говори - ходене по жени. И ако не беше болен сега, пак щеше да избягаш!
- Хайде, стига! - махна добродушно дядо. – Ако му е такава съдбата, нищо не може да се направи...
Баба видя, че оживяваме и вече не искаше да жертва нищо.
- Внука си ли ще му подариш? Какво е направил, та да вземе детето? Къде се е чуло-видяло такова нещо?! Сигурно си заговорничил с него!
Дядо изрече такива нецензурни думи, че баба изсумтя ядосано и замълча - това беше само игра на думи! Но не за дълго, скоро тя отново седна до дядо и попита примирително:
- И за какво му трябва бикът? Търси му бик и това е. Как ще го лекува?
- Не е наша работа, ти не се намесвай, - спокойно посъветва дядо, - също не искаше да се карат. - Не разбираме нищо в тези неще и няма нужда да разбираме.“ Да го излекува, това е важно.
- Какво си говорихте с него три часа без прекъсване? – подозрително попита баба. - Познаваш ли го?
- Не, но съм срещал хора от тяхното племе.
- Що за племе е това?
- Е, има едно племе, което не е като нас. Те се наричат гои.
- Какво, те не са ли руснаци?
- Как така неруснаци? Руснаци са...
- Не съм чувала за това племе...
- Ха, ти много неща не си чувала и не си виждала...
- И къде живеят?
- От къде да знам? Навсякъде живеят, ходят, пътуват...
- Значи са цигани! - реши тя. - Така си и мислех! Гледам го как си върти очите навсякъде!
- Те не са цигани! - Дядо криеше нещо, и затова търпеше, още не се караше, но беше на границата на търпението. - Това е специална порода хора, гои. Добри хора са, съвестни, не правят нищо лошо, живеят според справедливостта. Нищо друго не знам.
- Знаеш, но не искаш да кажеш! - не отстъпваше баба. - Как така три часа седяхте и си шушукахте... Кой те излекува от тифа в гражданската война?
Пак тези гои ли? Не от нея ли е този лешак дойде? От възрастната жена, която ти роди дете?
Дядо дори не се заруга, махна с ръка, обърна се към стената и млъкна, а баба прехапа устни, взе червения бик със звездичка за поводилото и го поведе обратно, откъдето го беше взела.
Тогава все още не знаех какво се е случило с дядо ми по време на гражданската война, никога не се беше говорило за това в къщи и не разбирах бабината подозрителност и любопитство; но оттогава запомних тази дума - гой и когато четях приказки, където Баба Яга пита: «гой еси добри юначе?», веднага се сещах за пътника и разбрах всичко. Един ден, по време на урок, мисля, че беше във втори клас, някой попита какво означава такова питане, учителят отговори, че това е просто игра на думи, които не означават нищо. Не можех да се съглася с такава преценка, тъй като бях виждл жив Гой и разбрах също думата «еси» от молитвата, която чувах всеки ден и знаех наизуст: „Отче наш, иже еси на небесех...”. За яснота, баба ми я беше превела и звучеше така:
"Отче наш! Ти, който си на небето." Затова Баба Яга не си играеше на думи, а конкретно питаше: гой ли си добри юначе, или не?
Всички тези знания споделих с учителя. Реакцията се оказа непредсказуема: извикаха баща ми в училище и започнаха да му се карат за мракобесието и религиозната пропаганда в нашето семейство. Накратко казано, той се върна в къщи и с помощта на колана си ми обясни, че трябва да се науча да си държа езика зад зъбите, и да не говоря в училище какво учат и какво говорят в семейството.
Но това се случи по-късно, а сега баба откара негодния бик, върна се още по-ядосана и заяви решително.
- Колкото и да са съвестни тези твои цигани, няма да си дам внука! И нямаме нужда от техния бик и лекарство!
- Казах, не е циганин той, а гой, - търпеливо напомни дядо.
- Все едно, няма да го оставя да се доближи до двора! Да си върви по пътя с бика...
- По-добре внука да умре, така ли? - развълнува се той. - Или цял живот да лежи? Щом обичаят им е такъв - ако го вдигне на крака, нека го вземе. Нищо лошо няма да се случи, а внукът чрез него човек може да стане и свят да види.
- Ето започва се пак, - започна да се кара баба. Винаги се забъркваш с всеки, пускаш всякакви цигани в къщата. Старец си вече, минал през три войни...
Този път дядо започна да сумти като ядосана мечка и придърпа смърчовата пръчка към себе си.
Неприязънта към циганите в нашето семейство започна с това, че когато бях на около осем месеца, те едва не са ме отвлякли. Не помня тази случка и я знам само от разказите, били дошли в нашето село циганите за нощувка. Това бил някакъв табор, който не се е подчинил на властта - след войната им е било забранено да се скитат и те като че отишли надалече - чак в Сърбия. Циганите се разположили зад кошарите и запалили огньове, но помолили да пуснат децата и една стара циганка да пренощуват в къщата – било е през зимата.
Баба чувствала, че нещо не е на ред и не искала да ги пуска, демек ще внесат въшки и ще откраднат нещо, но дядо, като глава на семейството, разрешил. Около дузина циганчета били сложени върху тухлената печка и на дървения одър над нея, две бебета са били поставени на кушетката зад печката, а самата циганка се настанила на пода. Сърцето на баба не издържало и тя омекнала. Първо сервирала на децата купичка с мед (имахме свой пчелин и много мед), след това предложила чай на циганката, накрая започнала да разговаря с нея, започнало се гадаене на карти, по черната книга и гледане на ръка и в резултат на това всички научили съдбата си, включително и аз. Циганката ми обещала живот седемдесет и шест години, смърт от вода - тя щедро раздавала продължителност на живота, богатство и щастие на всички, дори на кравата, която скоро трябваше да роди две телета, и дори на бащината ми Карка, селповската държавна кобила, която не се беше жребила в продължение на много години.
Въпреки либералността си, дядо поставил стража за през нощта - изпратил баща ми в двора да пази стопанството. На сутринта двама цигани се опитали да се доближат до конюшнята, видяли са навярно Карка, която беше красива на вид, но със счупен гръб, но срещу тях излетяла пуснатата глутница кучета и баща ми с пистолета. Чул се лай и шум, а през това време старата циганка започнала да буди и да събира децата в тъмното. Майка усетила опасност, станала и запалила лампата в момента, когато възрастната жена с две бебе на ръце и котилото циганчета излизала навън.
Вместо мен в люлката било сложено дърво, увито в пелените! Циганчетата не плакали и затова майка ми съобразила и грабнала крещящия вързоп от ръцете на крадлата. Тогава всички скочили, започнало се викане, баба тръгнала в атака с дръжката за тавите, и баща ми дотичал. А в табора конете били вече впрегнати и заюздени, хвърлили децата в каруците и размахали камшиците.
Когато роднините ми се опомнили малко, ме отвили и внимателно ме огледали. Всички решили, че съм аз, но баба имала съмнения - сякаш бенката на бузата ми била малко по-долу, а очите ми вместо сиви станали сини, и меките ми бели косми на главата сякаш били потъмнели.
Няколко дни се съмняваше, че са ме сменили, мисля, за да подразни дядо – той пусна старицата с циганчетата! После и тя ме призна за свой, но когато пораснах малко, още около пет години ме плашеше с циганите, особено през зимата, в студа, за да не поискам да изляза навън. Имахме шуба от овча кожа, направена от лошо обработени овчи кожи, което стоеше като кол от студа, така че тя го слагаше на входа, отваряше вратата и показваше:
- Виждаш ли циганина! Ако излезеш, той ще те открадне и ще те вземе със себе си.
Страхувах се от циганите до момента, когато чух песните им...
Ситуацията сега беше подобна, този пътник от племето гои можеше да ме вземе, и да ме заведе някъде, но странно нещо - не изпитвах страх, напротив, исках той да излекува мен и дядо ми и да ни вземе със себе си. И ние да вземем по един кон и да яздим, като в картината „тримата богатири“ от списание „Огоньок“, с чиито страници беше облепена преградата в голямата стая.
Родителите ми обаче разсъждаваха по друг начин, или по-скоро спореха с либералния ми дядо, който можеше да ме даде и на мошеник дори, само да остана жив. Всички останали бяха готови да изгонят странния пътешественик, щом ме изправи на крака, иначе щели да извикат полиция и селския съвет, ако поиска момчето и започне да ги тормози. Дядо стоеше сам срещу всички, засмя се и махна с ръка:
- Ама, какви глупаци сте само! Как не можете да разберете - така ли трябва да се постъпва - вместо благодарност да го изгоните?
Не помня колко дълго беше отсъствал нашият гост, говореха различно, от няколко часа до един ден.
И никой не тържествуваше, когато той се появи с червен бик, и не го водеше вързан с въже, а сякаш двегодишният бик сам го следваше. Не поиска пари за него, а седна на една пейка да наточи ножа и дълго го търкаше върху точилната плоча, пробвайки остротата ми с пръста си, след което нареди на майка ми да запали желязната печка в старата къща и повика баща ми да му помага. По-късно бащата разказа как необичайният гост е заклал бика.
Родителят е работил през целия си живот като ловец, и професионален ловец, отглеждал е крави, прасета и овце, знаеше много похвати за лов на животни и клане на добитък, нещо, на което започна да ме учи от дванадесетгодишна възраст – възпитаваше ме като хладнокръвен и на същевременно състрадателен човек. Това, което беше видял обаче в старата къща, не се вписваше в рамките на селското му въображение. Придирчивият пътешественик заповядал да разпръснат чиста слама на пода, след което донесъл и въвел върху нея бика – отново без въже. С помощта на конска стъргалка и четка той го почистил старателно от главата до петите и измил копитата и рогата му с топла вода и сапун, след което наредил на баща ми да измете сламата, да я изгори и да я донесе свежа. Всички тези приготовления били изморителни, баща ми чакал пътникът да вземе ножа, но той все се протаквал и отлагал: ту стоел на прозореца, ту по някаква причина опипвал гръбнака на бика от главата до върха на опашката, ту хвърлял дърва в печката и седял, като че грееки се. Баща ми едва издържал да не се намеси: ако това е някакъв магьосник или лекар, то навярно неспокосан и е доведел подобен бик – тежък около триста килограма, с люта муцуна, завита вече в гънка, с рога дебели в една ръка обхват, и си стои мирно, като агне, което не чувства смърта.
Всички тези приготовления отнели час и половина, след което пътешественикът отново се приближил до бика, побутнал го леко той се свлякал на пода. Бащата се втурнал да го държи за краката, за да не рита, но бикът бил вече готов! И тогава започнала бърза работа - да се одере кожата, без да не се пролее нито капка кръв. Пътникът не позволил на бащата с ножа дори да се доближи до трупа, само го карал да помага - да подпира, или да навива кожата с мъзгата навътре, за да не изстине. Само направил нарезите, запретнал ръкави и започнал да дере кожата с юмруци – а пък да е козел, да, а то цял двегодишен бик! Не изминали и десет минути, а работата била вече свършена! Бикът е убит и одран без капка кръв!
Бащата взел брадва, за да накълца трупа и да го окачи на студа, но пътникът го спрял и заповядал да го натоварят в шейна, да го закарат на открито и да го дадат на птиците да го изядат, а костите да заровят в земята през пролетта на възвишение, където няма задържане на вода. Никой да не бивало да изяде и парче от този бик!
Мен той ме съблече гол и ме обви с горещата кожа с краката и ръцете - сякаш ме беше повил, оставяйки свободни само носа и устата ми, за да дишам, и очите ми.
- Сега спи! - заповяда пътникът и ми даде още един кристал сол.
- С теб ще бъда.
Заспах почти моментално, изпитвах някакъв слънчев вкус в устата си и приятна, леко пареща топлина, сякаш лежех върху речния нагорещен пясък в горещ летен ден. Помнех тези усещания толкова добре, че по-късно много дълго търсех дали нещо подобно съществува в природата. Изядох много килограми обикновена сол, лежах на различни плажове, но нищо не беше такова. Имаше известно сходство с вкуса на молдовското червено вино, което се пресова от грозде Изабела и след това се оставя на слънце във вана, за да ферментира. Случайно почувствах подобна топлина един ден, когато на Таймир чаках транспорт да си тръгна от сондажната площадка и да отида в канцеларията (мразът беше над петдесет), и се бях качил в дизеловото помещение, загрял се бях и задрямал под мощния, оглушителен рев на двигателя.
В този момент майка ми дотича, последвана от баща ми.
Те свалиха кожата на бика по същия начин, по който пътникът я беше свалил от бика, с единствената разлика, че го правеха не толкова умело. Изкрещях, сякаш ме деряха, и то без нож: кожата беше изсъхнала, залепнала или напълно враснала в тялото, а родителите ми се радваха, вероятно инструктирани от пътника - знаеха, че ще оживея, ако изкрещя, тялото ми беше възвърнало чувствителността си, мускулите ми работеха, защото ритах с крака от болка и се отбивах. Дядо ги насърчи, казвайки, че няма проблем, викай по-силно, това помага, и той не издържа, стана от леглото за първи път от много месеци и започна да помага; баба, която доскоро подозираше случаиния гост във всички грехове, страстно се молеше и каеше:
- Боже мили! Ти ни изпрати своя ангел! А аз, сляпата, не видях това, не го разпознах, взех го за лешак. Прости ми на мен, грешната!
Татко изнесе кожата на червения бик навън, покри я с брезови дърва и я изгоря, както царевич Иван е изгорял кожата на жабата...
Гоят
И така, от февруари 1957 г. започнахме ново отброяване на времето - от деня, в който пътешественикът дойде при нас. Когато си спомняха за нещо, шепнешком и само в кръга на семейството обикновено уточняваха:
- Да, това беше през тази и тази година, откакто се появи гоя.
Баба ми обаче, възхитена, че докторът не ме е взе и дори не поиска пари за бика, го наричаше само ангел.Тя въобще доста често рязко променяше отношението си към хората, и започна да боготвори този случаен пътник. В моето съзнание той изобщо не изглеждаше като ангел, а по-скоро като стар, зрял и силен мъж, но беше невъзможно да се спори с баба, според нея пратениците на Бога могат да се появят под всякаква форма, а хората са слепи и не виждат Провидението Господне.
Още тогава разбирах, че се е случило нещо необикновено, цялото ни семейство се докосна до чудо и сега този пътешественик сякаш живееше невидимо в нашата колиба като безплътен ангел, и постепенно се превръщаше в легенда.
Следващата пролет, в началото на Страстната седмица, баба отиде пешком до града, за да се помоли, да благодари на Бога за чудотворното спасение на мен и дядо и да отпразнува Великден в действаща църква. (Понякога тя ходеше да се моли на мястото на изгорената църква в Зарянск.) Томск беше толкова далеч от нас, че нямаше значение дали човек отива там или в Палестина, на планината Сион. Спомням си, че я чакахме дълго време, гадаехме какви подаръци ще ни донесе, бяхме откровено отегчени и дядо седеше все по-често на прозореца с изглед към пътя. Баба обаче се върна толкова разстроена и объркана от нещо, че дори забрави за подаръците и започна да ги раздава едва на втория ден. И едва след като изминаха две години от появата на Гоя, тя тайно разказа на втората ми баба по майчина линия, как в изповедта разказала историята за пътешественика и неговото лечение, за което свещеникът я укорявал много, казал, че е сляпа, не е видяла Сатаната и неговата сила, позволявайки на магьосник да лекува нейния съпруг и внук. Казвал, че лечението трябва да става с молитви, пост и послушание, а не и с бичи кожи, и сега не се знае какво ще стане с излекуваните, ще приеме ли Господ нашите души на небето, и в същото време нейната? Свещеникът не ѝ простил този грях, той ѝ заповядал да отведе мен и дядо в църквата: тогава, рекъл, ще ти простя и ще ти дам свето причастие.
По това време никой не знаеше това, но дядо ми заподозря нещо, когато тя за първи път ни забрани да говорим за гоя, като каза, че този скитник изобщо не е ангел, а демон, изчадие и лешак, и след това тя се зае с нашето религиозно възпитание. По времето на Хрушчов подобно нещо беше практически забранено, у нас „открити“ поклонници бяха само молдовците – Свидетели на Йехова (между другото, забранена секта по онова време), а ако имаше православни вярващи, те вероятно се молеха тайно, в пещери, като първите християни. Дядо обичаше да повтаря понякога как е отишъл на Първата световна война като млад, но дълбоко религиозен човек, а се е върнал след Втората световна война като пълен атеист - каза това, когато възникна спор с баба. Затова той погледа веднъж как тя поставяше нас със сестра ми до себе си пред иконите, втори път, и каза строго:
- Ти изкупувай греховете си, а те още не са ги придобили. Иначе скоро ще станем като староверите! И няма да отида при твоя свещеник, а ако дойде тук, ще го още и натоваря с тоягата!
Баба само сви устни, но вече не ни слагаше на колене и не ни принуждаваше да повтаряме молитвите. Оказва се, че тя отдавна е убеждавала дядо да отидат в църквата при свещеника и се изпусна, че е лишена от причастие, но за какво - мълчеше като партизанка. Сега тя дори не искаше да чуе за гоя и когато започваха да говорят за него, тя или излизаше, или сърдито се обръщаше настрани и по този начин привличаше още повече вниманието на човека, който случайно се намираше в къщата. Най-често баща ми го споменаваше, опитвайки се научно да обясни природата на лечебните способности на Гои. Отначало той дълго изучаваше ефекта на горещата бича кожа върху човешкото тяло и когато заклахме бик, уви левия си крак, който беше повреден от падане с мотоциклет, и лежа цяла нощ - това изобщо не му помогна. Тогава той заключи, че именно червен бик е необходим, което означава, че цвета има значение. Баща ми много четеше и знаеше различни неразбираеми думи.
- Всичко е заради фермента! - каза той. – Лекува ферментът.
На третата година веднъж той дотича от лов в разгара на сезона, уж за храна, но всъщност, обикаляйки из ловните колиби, най-накрая разбрал какво става.
- Тате, гоят даде ли ти сол? – започна да пита дядо.
- Какво искаш? Дал ми е, не ми е дал... – неохотно промърмори той. - Важното е, че ме вдигна на крака...
– Какво си говорихте цели три часа?
- За нищо. Така си говорехме по старешки...
- Само не ме лъжи, татко! Кажи ми, какво? Може би той те е лекувал по специален начин?
-Той не ме е лекувал с нищо! Нито така, нито иначе.
Имаше само едно място, до което от известно време се страхувах дори да се приближа - Змийският хълм при за смолената фабриката: на пръв поглед незабележителен хълм, покрит с гора, каквито имаше много в района. Вярно, навсякъде имаше вкаменени блокове от пясък, въглища и смола, които стърчаха от земята и някакви дървени кръгове, конструкции... Не много удобно място за игри, но снегът тук се топеше най-бързо, образуваше се сухо размразено петно, където растеше гъста трева и кокичета, и като цяло беше топло, радостно и безгрижно. Сестра ми и аз ходехме там да берем цветя, и да пием особено сладкия брезов сок със сламка, след като отлепвахме брезовата кора с нож, или просто да си играем.
Родителите ни никога не се тревожеха за нас, за щастие селото се виждаше през рядката млада гора. По-рано тук имаше вековна борова гора, изсечена в началото на тридесетте години от затворниците, пъновете след това бяха изкоренени с помощта на експлозиви и пуснати за смола. Обаче, близо до завода, по вала, по това време имаше все още няколко гигантски пъна, на които спяхме, като на легла, припичайки се на слънце.
Бях, вероятно на около три години, когато през пролетта за първи път се скитах тук сам и когато се озовах на самия хълм, онемях, обзет от ужас: една-две стотици най-различни змии се рояха наоколо, от лъскави черни усойници до малки гробни змийчета, сякаш изляти от мед. Те непрекъснато се движеха, преплитаха се като въжета, увиваха се около тънките дървета, висяха по клоните, пълзяха една над друга и по ботушките ми и като че бяха заети само с техни си работи.
Нашето селце беше разположено на змийско място, известно в цялата околност.
Когато семейството реши да се премести тук през 1950 г. от тогавашното голямо село Митюшкино, баба знаеше за тази напаст и се възпротиви. Дядо ми обаче цял живот се стремеше към свобода, за нищо на света не искаше да се присъедини към колхоза и на баща ми не позволяваше (а ни принуждаваха да се присъединим, казвайки: щом живеете на територията на колхоза, работете тук); като глава на семейството, той каза думата си, натовари багажа на две лодки и отплава до змийския бряг на Алейка. Вече бях виждал усойници много пъти, дори в нашия двор, нас със сестра ми ни учеха да не се страхуваме от тях, а да ги бием с тънка гъвкава пръчка и ни показаха как се прави това. В нашето ранно, и както се полага, босо детство, имахме две опасности – ръждясалите и затова много остри парчета от бодливата тел, които цяло лято сякаш изникваха от земята, тъй като на мястото на селото в началото на тридесетте е имало затворнически лагер, и змиите, пълзящи по най-неочаквани места. С първия проблем се справяхме просто - три пъти през лятото метяхме двора и изсипвахме по половин кофа остри парчета в един изоставен кладенец, но с втория беше по-трудно, защото усойниците се озоваваха дори в мазето и в яслите на кравите, убивахме десетки от тях, и освен това баба винаги твърдеше, че за всяка убита змия се прощават четиридесет греха.
Странното е, че докако през лятото всяко от петте деца в нашето семейство си убождаше петите по два или три пъти, през шестнадесетте години от живота ни в селото змиите никога не ужилиха никого. И в други околни села не се е чуло някой да е пострадал от тях. Тоест, не изпитвах никакъв особен страх от ухапване, болка или дори смърт от змийска отрова и, заставайки сред движещите се орди, изпитвах повече отвращение, бях вцепенен от мерзостта, и страстно исках в този момент да се издигна поне на един сантиметър и да полетя над гъмжащия змиярник, защото нямаше къде да стъпя!
Но при всички положения, имах чувството или по-скоро абсолютната увереност, че нищо няма да ми се случи.
Не помня колко време съм стоял така на Змийския хълм (преди тази случка никой не се беше замислял защо този хълм се казва така, там виждахме змии, но толкова, колкото и навсякъде другаде), не знам как съм пресякъх змийския поток, може би наистина през въздуха, но си дойдох на себе си едва близо до добитъка, жив и здрав. И незнайно защо извиках радостно:
- Мамо, мамо! А мен змия ме ухапа!
Баща ми изкарваше тор в градината през това време, и дотича с вилата, след него дойде майка ми, съблече ме гол, огледа ме, нищо не намери и ме предаде на баба. Тя ме удари с пръчката, приготвена за змиите, отведе ме под грижите на болния ми дядо и хукна да настигне родителите ми, които бяха тръгнали към фабриката за смола.
- Стига рева, - успокои ме дядо. - Не си ухапан и това е добре. Когато оздравея, ще отидем на риба, ще хванем щука и ще сготвим уха на брега. Уха-та* (*рибена чорба, бел. прев.) от главите на щуката е вкусна, богата, ще ядеш, докато коремът ти се пукне.
Разбрах как наказателната кампания срещу Змийския хълм приключила след петнадесет години, на тръгване в казармата, а тогава по някаква причина никой не каза нито дума пред нас, децата, като че нищо не се бе случило.
Може би не са искали да не ни плашат, или може би самите те са били уплашени; беше отвратително да си спомнят за това, тъй като бяха убили, изгоряли в огъня и завлякли върху мравкуняци повече от сто усойници и много други змии. Само веднъж чух дядо ми да ругае, че всичко това е безполезно, ще дойдат нови и ще отмъстят, няма как да се махнат гадовете от това място. На изпращане пияният ми баща си спомни моите детски „подвизи“, и тогава разказа за този случай много колоритно, добави от себе си нещо и после попита опитните мъже:
- Знае е ли някой защо змиите се събират на този хълм веднъж на сто години? Кой може да разгадае тази тайна на природата?.. Ясно е! Никой не знае и никога няма да разбере, защото това е необясним феномен за нас. Татко знаеше защо, но не казваше...
След това избиване броят на змиите значително намаля, те започнаха да се появяват по-рядко в близост до човешките домове, но на следващата година популацията им се възстанови и моите братя близнаци, които едва започваха да изследват света, намериха един път усойница точно до банята. Те протягаха пръсти към нея с намерение да я докоснат и говореха със знание по въпроса:
- Въженце, Въженце...
Когато с дядо ходихме да търсим гоя, по някаква причина дойдохме до напълно чистия Змийски хълм и спряхме там. Дядо беше толкова уморен, че седна на вкаменен блок от смола и дълго дишаше запъхтяно, преди да каже нещо.
- Оттук трябва да тръгнем да търсим гоя, - каза той най-после. - Той оттук минава, това е неговия път.
- Да тръгваме тогава дядо! - дръпнах го аз за ръката.
- В коя посока, знаеш ли?
- Не...
- Не знам със сигурност. Навярно трябва да тръгнем натам... – махна с ръка дядо към блатото под билото. - Или натам... Трудно ми е да ходя, Серьога, разбираш ли ме, краката ми едва ходят.
- Моите ходят! Мога и сам да отида!
- Но трябва да знаеш и пътя! - Той се огледа тъжно и замислено, сякаш искаше да засвири „Черния гарван“. Ще тръгнеш на посоки и няма да се върнеш. И още ти е рано, когато порастнеш, ще отидеш сам. Хайде по-добре да седнем и да чакаме. Гоят никога няма да подмине Змийския хълм. Той често нощува тук, спи на този пън - и показа един грамаден и широк пън, на който бях спал неведнъж. - А преди се е случвало дори да зимува тук. Това беше времето, когато затворниците не бяха изсекли още боровете. Имаше колиба, висяща между три бора, под самите върхове - високо...
- Колибите не висят, а стоят на земята! – поправих го аз.
- Гоите имат и висящи, обичат да живеят нависоко. Е, добре, нека да почакаме. Просто седи тихо, не мърдай и мълчи. Ето, слушай как пеят птиците.
Седях тихо и слушах, може би цял час, докато ми стигаше търпението, тичаха бурундуци покрай мене и змия пропълзя някъде под билото, гоят го нямаше, а баба дойде и ни извика за закуска. Връщахме се вкъщи не през гората, а по пътя, и дядо стана някак си весел, закуца по-оживено, погледна ме насърчително и аз не се чувствах излъган.
- Всичко е наред, Серьога, не му мисли! - каза той уверено. - Днес гоят не мина - утре ще мине, или вдругиден. Не през лятото, през зимата. Тук му е пътя, така че все още може да се улучи.
Ходех на Змийския хълм през цялата останалата част от лятото, есента и дори зимата със ските, всеки път преодолявайки смразяващия страх, но никога не видях гоя и не намирах никакви следи от него нито на земята в кишата, нито в снега. Но през цялата пролет упорито и всеки ден тичах тук, оглеждах се и със затаен дъх се изкачвах, сядах на големия камък, за да не ме достигнат змиите, и чаках. Един ден, вместо гоя, дядо докуца до мен, както по-късно се оказа, по молба на баба ми.
- Какво, няма ли го гоя? - попита той весело. Вярвах на дядо искрено и безкрайно, както може да се вярва само в детството.
- Не знам защо, но го няма, - признах си тъжно. Сигурно от друго място сега минава.
- Може и така да е, да си тръгваме вкъщи
- Къде нощува гоя сега?
- Далече е оттук, чак на Божието езеро - каза сериозно дядо. - Мястото там е отдалечено, диво и гористо. Нали знаеш, че там има плаващ остров?
- Знам!
- Живееше на този остров по-рано. А сега е много населено.
Мястото беше затънтено, - без пътища, без пътеки, - и отиването там е трудно: първо трябва да се премине река Чет, после да се върви през тъмния елшак, през симоновските ливади и блато с високи в човешки бой буци. И е нужно още да се улучи тясната «грива» смърчова гора, от която се стига до брега на Божието езеро. Водата на езерото имаше бакърен цвят, говореше се че е бездънно и в него има огромни власисти щуки. Една такава щука, попаднала на въженцето на един мъж от Торба, го беше удавила заедно със сала. Не могъл да стигне до брадвата, за да отсече шнура и потънал. А салът му, казват, няколко дни след това се е мятал по езерото.
Не знам дали в Божието езеро има власисти щуки, но там имаше мъхеста гора и се намираше тя зад плаващия бряг на възвишението - огромните вековни борове бяха покрити с мъх отдолу и чак до короните и излизаха на земята гигантските им корени. Миналото лято майка ми тръгна на езерото да бере боровинки и ме взе и мен със себе си. Преплувахме езерото на сал и се озовахме на плаващото островче, където растяха боровинките. Земята под краката ни се носеше по водата, беше интересно и приятно да се люлеем върху нея, като на легло с пружина. Но най-много ме привличаше огромната гора, тъй като никога по-рано не бях виждал толкова големи дървета отблизо. Майка ми не ме оставяше да ходя надалеч сам, страхуваше се, че ще отида на брега и ще падна в дълбоката вода. А там, казват, че е невъзможно да се стигне до дъното - когато мъжете са търсили еднокракия, те завързали две въжета да измерят дълбочината и не било достатъчно.
Много бързо набрахме три кофи сини боровинки, от боровинките блатото изглеждаше синьо, и майка се съгласи да отидем в гората без цел, просто така. Изкачихме ската и походихме малко по края на боровата гора, спъвах се непрестанно и падах, защото не гледах пред себе си, а навътре в тайнственото място.
Около нашето село имаше много гора - смесена, брезова или чиста борова гора, но оттогава ме влечеше точно в тази, защото беше на самия край на света: никога не съм бил по-далеч от езерото, а това означава, че светът свършваше за мен там. Сигурно на всички им беше писнало от въпросите ми за Гоя, дори майка ми започна да ги отхвърля, казвайки, какво все за това гвориш? По-добре си вземи букваря и чети, скоро на училище ще тръгнеш. Дядо, разбира се, щеше да дойде с мене, но на правия си и изсъхнал крак той не можеше да ходи по-далеч от брега или фабриката за смола, а древната, могъща гора на Божието езеро, според тогавашните понятия беше далеч - на два километра разстояние, не по-малко. Затова реших сам да отида и да потърся къде живее пътникът.
На първия си самостоятелен поход тръгнах рано сутринта, още преди закуска, когато родителите ми отидоха да косят в заломските ливади. Взех дървената си пушка, истински нож, кибрит и сол - като баща ми, когато тръгва на риболов - и минах право през картофите и дървената ограда, за да не ме забележат от прозореца. Преплувах реката с лодчицата, скрих я в храстите и смело стъпих в мрачната трепетликова гора.
Търсили са ме почти три дни във всички гори, във всички посоки, най-напред, разбира се, на Божето езеро, както и в реката и в другите езера.
Дядо се смяташе за виновен, втурнал се да ме търси и бил толкова притеснен, че за първи път след появата на Гоя се разболя много и залегна.
От Торба чичо Саша докарал цяла кола дървосекачи, които претърсили трепетликовата гора от другата страна, Симоновските ливади, гъстото блато и плаващата земя около Божието езеро, викали, стреляли и през нощта, за да не хабят патрони, удряли с чук върху окаченото смърчово трупче - то звънтеше като камбана. Всички мислели, че ще чуя и ще дойда, ръководен от звука, но аз не чух нищо, въпреки че през цялото време бях в гората близо до езерото, което дървосекачите обходили надлъж и нашир.
Сутринта стигнах до езерото, преплувах го със сала и влязох във вековната гора. Търсих висящото жилище на пътника може би час-час и половина, обиколих цялата гора и се върнах по същия път, защото исках да стигна навреме за закуска, иначе баба щеше да започне да ме търси.
Тогава ме питаха как и къде съм нощувал и не можeх да докажа, че не имало нощи, тъй като ме нямаше само четири-пет часа. Слънцето не залязваше и не изгряваше, не виждах звезди на небето, не лягах да спя, защото комарите ме хапеха безмилостно, и не съм палил огън. Веднъж само пих вода от една локва с дланите си и не можах да устоя - качих се на плаващия остров и ядох горски малини.
Може би моят искрен инат тогава ме спаси от бичуване. Семейството се посъветва и реши да не ме наказва, но ме нарекоха хитър, находчив и упорит, забраниха ми да ходя извън двора и ме изпратиха да плевя картофи. Чаках дядо ми да се застъпи, но той беше много болен и не можеше да се стане за семейния съд, но по-късно ме ме примами при него и не ме щракна по челото с костеливия си пръст така, че ми потекоха сълзи. Няколко дни по-късно той стана едва-едва, проходи и вечерта, отваряйки прозореца се облегна на перваза и започна да си подсвирква своя „Черен гарван“. А седмица по-късно той седна в лодката и отиде на риболов, но не ме взе и изобщо спря да говори с мен. И едва през есента, когато бях вече ходил един месец на училище и всичко беше позабравено, неочаквано ме извика да ловим щуки и михалици по пясъците.
- Къде беше тогава, Лешак*? - попита ме със старото негодувание, но и с желание да се помирим. (*- горски дух, объркващ пътя на пътниците)
- Бях на Божието (езеро), - признах аз. - В старата гора.
- А не лъжеш ли?
- Не!
- Изгуби ли се?
- Не съм се губил...
- Тогава, къде беше?
- Там бях, дойдох там, търсих Гоя и веднага се прибрах у дома.
Дядо тури риболовното копие напреко на лодката, седна и се загледа в блестящия връх на кърмата.
- Какво, няма ли го там Гоя? – попита той след няколко минути.
- Не го намерих.
- Добре, хайде да ловим риба.
Няколко години по-късно, когато баща ми ме обучи да ходя в тайгата и ме научи на занаята, дядо често се кискаше, казвайки, хайде, кажи ми как се изгуби в три бора на Божието езеро? И ако отново започнех да доказвам, че не съм се изгубил в гората и не съм нощувал там, той се ядосваше и ме наречаше лъжец и инат. Оттогава бяха минали тридесет години и един ден дойдох при баща ми и го намерих пиян, но не с акордеон в ръце, а объркан и замислен, което никога не се беше случвало. Току-що се беше върнал от риболов (тогава той живееше в областния център), сготви рибена чорба от глави на щука и седна на масата в гордо уединение. Той не каза нищо тогава, но след полунощ, когато най-накрая взе акордеона, избухна в сълзи. Остави инструмента, затича наоколо, потропвайки с босите си пети по пода, и сви отново цигара.
- Слушай, Серьога, не знам какво става! – проговори той полу-шепнешком. - Вчера дойдох в Алейка, отидох на Езерото, мислех да сложа мрежи и да наловя щуки със стръв. Е, забих шест от тях, изкачих се на брега, седнах да пуша. Гледам, плувките се двжат, рибите дойдоха и до вечерта улових петнадесет!... Стъмни се, и си дойдох в хижата. Печката беше студена. Бях я напалил добре, за да си дойда и да нощувам на топло. А тя беше ледена. И млякото в бидона се бе вкиснало... Стана ми страшно, оставих мрежата в езерото и се прибрах у дома. Пристигам в къщи на седемнадесети. А тръгнах на четиринадесети с една нощувка! Не знам как да си обясня това. Къде съм бил три дена? С жената се скарахме. Пиянствал си, казва, затова не помниш къде. Показвам ѝ рибата: хайде, щуките умират бързо, а каракудите са пресни, още си мърдат опашките!.. Ако се бях напил, и ако съм лежал някъде, тя щяха да са умряли със сигурност вече. Не се съгласи, и избяга пак при майка си.
След смъртта на майка ми той се жени три пъти, но никой на света не можеше да я замени, неговата любима и единствена. Всички съпруги ревнуваха баща ми, защото насън я викаше по име...
- Въобще вярваш ли ми?
- Вярвам ти! – казах, сдържайки вътрешния си трепет. - Дядо ми каза, че Гоят нощува там. Баща ми се направи на глух за Гоя.
- Тогава отиди при нея, кажи ѝ, че това се случва. Отидох и ѝ обясних, доколкото можах, и доведох жената на баща ми у дома. Отношенията им сякаш се бяха подобрили, но на сутринта татко се въртеше тъжно по ъглите, или пушеше замислен на верандата.
- Трябва да отида и да сваля мрежите, - призна си той. - Ще изгният и рибата ще пропадне... Но ме е страх!
Струваше ми се, че се страхува да не се скара отново с жена си. Баща ми сякаш отгатна мислите ми.
- Недей да мислиш, че ме е страх от нея! - той се засмя предпазливо. - Ще отида на Божието (езеро), ами ако пак се повтори същото?... От друга страна, искам да проверя, да разбера какво става там?!
Следващият път, когато дойдох, няколко месеца по-късно, баща ми вече не си спомняше тази случка, така че трябваше да го попитам как мина проверката.
- Ами нищо! - каза той изненадан. - Отидох и свалих мрежите и нищо не стана. Когато отидох, тогава си дойдох. Най-важно е да не се мисли за това.
***
На четвъртата година след появата на Гоя, в един съботен банен ден, в самото начало на циганското лято, когато реката се беше вече избистрила, и беше влязла в коритото си и когато под високите храсти зад завоя започнаха да се въдят мъздругите (риби), ние с дядо отидохме на риболов. Лошо кълвяха - плоски, големи колкото дланта ми, чебаци, кацалки, а след това и въобще „гара руф» се хващаха, нито една мъздруга не докосна дори червеите. Обикновено дядо или си навиваше въдиците, или се местеше на ново място, докато намери риба. А сега седеше блажен, спокоен и въобще не псуваше, въпреки че малките рибки изяждаха стръвта на всеки три минути.
- Е, Серьога, време е да си тръгвам! - каза той към три часа.
- Седи, не седи, но трябва, дойде ми времето. Единадесети (октомври) е днес.
Доплавахме до нашия пристан, взех улова и изтичах вкъщи, а дядо остана в лодката, каза, че ще седи още час, докато банята се нагрее. След това тичах до него още два пъти: първия път той дори не проговори, по някаква причина седна в лодката с лице към кърмата, само се обърна и погледна през рамо, когато извиках от брега, че татко ни вика в банята. Втория път майка ме изпрати, каза, че бельото е приготвено - да извикам дядо. А трябва да кажа, че той обичаше се къпе, влизаше в банята за около пет часа, сякаш отиваше на работа, и ако цялото село чуеше веселите му, бодри псувни, това означаваше, че дядо се пари. Но след раняването дишането му в парната баня стана трудно; казват, че е бил много разстроен от това, докато не направил специален отвор, за да лежи на рафта в банята, но с главата навън. Обикновено баща ми го налагаше с две банни метли, а дядо навън викаше:
- Серьога, донеси ми вода!
Донасях вода и давах на дядовата говорещата глава, а ледът дрънчеше в дървената кана... Сега дядо седеше на кърмата на лодката и се опитваше да се оттласне от брега, но беше дълбоко и веслото не стигаше дъното. Изненадах се и се засмях - лодката беше вързана!
- Избутай ме, Серьога! - той също стана весел.
- Къде отиваш, дядо? - уплаших се аз.
- Време е да тръгвам!
- Мама каза да тръгваме в банята...
- Тук нямам време, а там ще се попаря. Да, Серьога, и там също има бани, само че са построени точно до реката и са с комин. Усетих, че нещо не е наред, изплаших се още повече и едва не се разплаках.
- Дядо, хайде да се прибираме, да тръгваме...
- Какъв ходач съм аз сега? - той се засмя. - Сега ти тръгвай, а аз ще плувам вкъщи! Плуването ми ще бъде леко: седиш, гребеш и си гледаш бреговете - красота!
- Но къщата ни е натам...
- Не, Серьога, домът ми е вече на друго място.
Дядо искаше още един път да тръгне, но пак не стигна дъното и за малко да извърне лодката. Такава неловкост той никога не беше допускал, но сега се развесели още повече, а колчето, за което беше завързана лодката се извади и започна да се влачи по брега.
- Дядо, къде отиваш? - лодката се понесе, опитах се да хвана въжето, но в ръцете ми попадна пясък.
- Тръгвам за рая! - засмя се той и започна да гребе. По това време бях вече завършил първи клас и много добре знаех, че няма рай, въпреки че дядо беше сигурен и винаги казваше, че той непременно ще се озове там. Дори и да не се моли като баба. Най-накрая хванах въжето с колчето, но не можах да удържа лодката и съпротивлявайки се, се влачех след нея.
- Няма рай и ад...
- Как така да няма? Кой каза?
- Казаха ни в училище...
- Лъжат! Къде ще отидем след смъртта? Няма ад, това е сигурно. Адът е на земята, затова живеем и страдаме. А когато хората умират, всички отиват на небето веднага, и грешните и безгрешните. Не вярвай на никого, Серьога. Ще ти разкрия една тайна, бил съм пред портите на рая, но само надникнах вътре. Раят не е това, за което е писано в Библията. Там има природа като нашата, и също тече река, река Ура. Една жена ме заведе там...
Той спря лодката до брега, заби греблото в пясъка и започна да разказва историята си. Слушах го със страх и възторг. И до ден днешен, когато изпитвам тези две чувства едновременно, винаги избухвам в сълзи и оставам без дъх. Това не беше улеченост от разказа - беше потресение, така че не забелязах дори как баща ми бе дошъл на брега и не знаех какво е чул, но беше уплашен и рязко се намеси, почти насила започна да издърпва дядо от лодката и да го убеждава да се приберем. Първоначално дядо махаше с ръце и се гневеше, но изведнъж се подчини и слезе на брега. Баща ми го хвана за ръка, въпреки че нямаше нужда, заведе го до скалата и го поведе към къщата. Баба бързо излезе да ни посрещне и до ушите ми стигна изпусната фраза от баща ми:
- Нещо не е в ред, говори странни неща...
После тези думи у дома ги повтаряха много пъти и всички бяха уверени, че дядо се е прегрял на слънце, получил е слънчев удар и затова е започнал да говори небивалици, тъй като това, което ми бе разказал – а татко навярно случайно бе чул, - не се вместаше в битовата логика. Те не знаеха също, че дядо след няколко часа ще умре – само на мен той беше казал това. Опитваха се по всякакъв начин да го успокоят, да го сложат да лежи, баба даже чашка водка му предложи да изпие. А дядо и без водка беше като пиян, смееше се, не се съгласяваше с нищо и искаше да отиде в банята. С други думи: щом не ми дадохте веднага в рая да тръгна и да се къпя там, парете ме тук.
- Трофиме, хайде приготви се да вървим! - Опита се да стане от одъра, но не му позволиха.
- Банята изстива, какво се бавиш? Аз имам малко време, нямам време! Вземете ново бельо, за да не го сменяте по-късно, и старата военна рубашка, с която се прибрах от фронта. В противен случай, ако съм с други дрехи няма да ме разпознаят и няма да ме пуснат. Хайде, ще се изкъпя за последно!
Той каза всичко това весело и дори радостно, но в къщата настъпи пълна суматоха. Татко се предаде и го заведе в банята, но този път не ме взеха, въпреки че тримата бяхме ходили заедно на първа пара от две години вече. Аз обаче, като омагьосан не можех да се откъсна от дядо, последвах го и останах да седя в преддверието. Скоро майка дотича и ме завлече у дома.
- Днес дядо ще умре! - казах и започнах да плача.
- Какво говориш? Пепел ти на езика! - предпази се тя. - Дядо ти е получил слънчев удар. Ще си почине и всичко ще мине.
- Не, днес той ще отплава за рая, на река Ура. Гоят му е казал. Той е поискал тогава смърт, омръзнало му било да страда, но Гоят му рекъл: ще умреш на единадесети, в събота след баня, а засега живей.
- А кой е този Гой?
- Това е този човек. Помниш ли, че беше дошъл да ме лекува? Когато ме увивахте с кожа? Майка навярно нищо не разбра, уплаши се, че и аз съм се прегрял и започвам да говоря глупости, заведе ме в старата барака и ме набута в леглото, след което ми донесе канче с мляко и хляб, накара ме да изям всичко пред нея и да си легна. Плачех тихо, мълчаливо изпих соленото от сълзи мляко и се скрих под одеялото, въпреки че беше рано, ливадният дърдавец в тревата не беше още запял и слънцето не беше залязло.
Най-обидното беше, че дядо ми щеше да умре и да отиде в рая без мен.
Той никога не говореше за войната и когато се събираха бивши фронтоваци в нашата къща и си спомняха за войната, дядо се усмихваше самодоволно, мълчеше и изглеждаше всякак, но не и като герой, особено когато облече сакото с двата медала - „За победата“ и „За отбраната на Арктика“ – това беше всичко, което бе спечелил в трите войни.
Много години по-късно, въз основа на оскъдните свидетелства на баба и баща ми, аз схематично реконструирах събитията, случили се с дядо в първите две войни: той се записва доброволно в Първата световна война през 1915 г., като се представя за по-възрастен, и след като се е сражавал една година, се разболява от тиф. Изваждат го от санитарния вагон и го изоставят на някаква гара, вероятно в Смоленска област – така са правели с умиращите, тъй като във влака нямало достатъчно място за ранените, които още е могло да бъдат спасени. Местни служби са погребвали мъртвите от тиф от военните влакове, но дядо ми още е дишал, и затова са го оставили на перона до настъпването на нощта. А през нощта дошла една жена на гарата и по някакъв начин вдигнала на крака и завела (или занесла) дядо ми у дома. Там го гледала, докато оздравее, в продължение на месец, подхранила го малко и го изпратила у дома. По време на Гражданската война той бил мобилизиран в Бялата армия, където служил много дълго време - цели две години и половина - нещо като домакин в складове, където се съхранявала конска сбруя (продавал седла на местни мъже за водка). Но по някаква причина участвал във военни действия от партизански тип, правил дълги конни преходи през гори и планини и дори получил огнестрелна рана в предмишницата. По едно време подозирах, че дядо ми е бил в някакъв наказателен отряд и веднъж изразих това предположение на баща ми. Той знаеше нещо, но не искаше да издаде всичко и отхвърли решително аргументите ми: дядо ми не е бил в наказателни части! Но веднъж той се изпусна, че моят дядо едва не отплавал с интервентите от Архангелск за Англия. Той вече се бил качил на параход и качил на него някакво имущество, но изоставил всичко и слязъл на брега в последния момент. Иначе, щеше да живее сега някъде в Лондон и нямаше да му пука. Като цяло това е бил най-мрачният период в живота му и дълго време мислех, че тайната му относно службата при белите е продиктувана от страх: могли са да го арестуват, да го вкарат в затвора или дори да го разстрелят. Съдейки по откъслечните разкази на баба ми, той дезертира от Бялата армия, когато тя се разпаднала, и избягва да се скрие в родното си село, но не у дома, а при годеницата си, тоест при баба ми. Било събота, в банята все още било горещо и го изпратили да се измие през нощта - имало много въшки. А братът на баба ми, Сергей (на когото са ме кръстили) бил червен партизанин по това време и дошъл от гората, също на баня. И след като хваща там един бял дезертьор-дядо, го сложил пред дъба, който стоеше в предната градина, за да бъде разстрелян. Баба паднала в краката на брат си, умолявала го за живота на младоженеца, и Сергей завел дядо при партизаните, където той носел рамката на тежката картечница на гърба си няколко месеца, докато червените победили. И по този начин, сякаш изкупил вината си.
Отишъл на Втората световна война през 1942 година, на Северния фронт, а след две години позиционна война, (дядо е носил тежката минометна плоча), където на възвишенията с отделението си попаднал на засада под картечен обстрел, бил ранен в гърдите и в крака, и лежал после в гората четири денонощия, очаквайки смъртта. (От този момент дядо заобичал да си подсвирква песента «Черен гарван».) Но по неизвестна причина кръвта му не могла да изтече, макар че не е могъл дори да се превърже, и не умрял, докато другарят му, също тежко ранен, загинал. Имало още трима убити на място.
И се случило така, че на петото денонощие, на хълмчето били изпратени войници да изнесат минохвъргачката (не убитите войници, и навярно затова на север техните кости до днешни дни лежат непогребани), и те намерили дядо жив и го отнесли заедно с оръжието. След лазарета в Архангелск (пак в Архангелск!), го изпратили у дома да умира – докарали го с каруца полужив.
Това е всичко, което ми беше известно от оскъдните, случайни разкази на самият дядо и на стареца Кафтанов, който е воювал заедно с него и беше също немногословен.
В онази събота, 11 юни, когато дядо ми получи слънчев удар и сякаш говореше несвързано, той всъщност ми каза нещо, за което през цялото време беше мълчал, защото е знаел, че веднага ще му припишат някакво психично заболяване или в най-добрия случай ще кажат, че се е прегрял на слънце. И той избра моите уши за разкритието, вероятно знаейки, че никой друг няма да му повярва. И така, след като минохвъргачното отделение попада в засада и било унищожено, жена в странни, необичайни дрехи се изкачила на хълма - яркосиньо наметало, наметнато на раменете ѝ, и много дълго, така че подгъвите му се влачели по мъха. Тя сякаш се носела, защото не се виждало как движи краката си. Отначало дядо ми си помислил, че е дошла някаква местна жена, от племето саами - те понякога се появявали на фронта, дребни, невзрачни хора в пъстри дрехи и с топли, украсени шапки по всяко време на годината. Когато обаче се приближила, дядо видял, че тази жена е висока, величествена, без забрадка, а косата ѝ била дълга и жълта, а не червена като на местните, и имала руско лице. Отначало му се сторило, че жената търсела ранените, защото спирала до труповете и ги оглеждала дълго време, вероятно определяйки дали са живи или не, а след това по някаква причина намятала долната част на наметалото върху лицето си. После си помислил, че това е самата Смърт, която ходи, и я извикал: „Ела тук, всички са мъртви, а аз съм още жив, гърдите ми горят, страдам, помогни ми.“ Тя го чула, но не се изправила веднага, първо постояла около мъртвите и като че плачела безшумно. А когато накрая се приближила и седнала на камъка до главата му, дядо видял, че тя не е призрак, а напълно реален човек, дори видял леки бръчки около очите ѝ, неизсъхнали сълзи по бузите ѝ и мъха, полепнал по подгъва на наметалото ѝ.
- Ти ли си Смърта? - попита той все пак.
- Не, аз съм животът след смъртта“ - рекла тя.
Във войнишката книжка на дядо, в графата „образование“, беше написано „негр“, което значи неграмотен. Той не беше силен във философските въпроси, не разбираше сложните изрази и затова се ядосваше, настояваше да му говорят ясно и на прост език. По онова време той караше третата си война и беше напълно убеден, че никакъв живот след смъртта не съществува: пред очите му стотици хора бяха умирали — бавно или мигновено — и нито една душа не беше излетяла от тялото, за да намери друг живот, в рая или ада. Дядо допускаше, че душа у човека може и да има, но тя е безтелесна, а безтелесен, макар и вечен живот, той не искаше в никакъв вид. Какъв е смисълът? Нито да прегърнеш жена си, нито да поседиш с въдица на брега, нито да направиш каца, нито дори да се попариш в банята. Щеше само да се скита като сянка и да плаши живите.
Затова казал на жената твърдо:
– Знаеш ли, аз не искам да живея след смъртта. Нека да е или едното, или другото – там или тук.
Тя откъснала мъх от камъка, на който седяла, избърсала кръвта от гърдите и краката му и с мъха запушила раните.
– Хайде, ставай и тръгвай с мен. Но гледай в земята, не вдигай очи.
Дядо си спомнил как, когато бил болен от тиф, една жена го е прибрала от гарата, където го оставили да умира, и решил, че пак е извадил късмет. За своя изненада, той се изправил и тръгнал. Докато вървяли, жената от време на време го питала:
– Жив ли си още, воине?
– Май че съм жив– отвръщал дядо, макар и самият той да не знаел: усещането било странно, раните го парили, а когато стъпвал с крака или си поемал дъх вече не го боляло особено.
– Добре – рекла тя. – Да вървим нататък. Но не забравяй – гледай под краката си и не запомняй пътя за обратно.
Не помнил колко и в каква посока са вървели; виждал само какво се намира под краката му: ту мъхести блата с червени боровинки, ту камъни, покрити със сини лишеи, ту горски полянки с узрели боровинки като кървави зрънца – очите от земята не повдигал.
Накрая стигнали до някакъв поток. Жената го попитала за последен път дали е жив.
– Май че нито съм нито жив, нито умрял – рекъл дядо. Огледал се наоколо – навсякъде хълмове, гора, никакви къщи.
– Кажи, къде ме доведе?
– При извора на река Ура – рекла тя. – Оттук започва пътят към небесното воинство. Виждаш ли, стоим пред самите му порти? И понеже ти все още не си умрял, по-нататък път за теб няма.
Дядо разбрал, че стои пред райските порти. Само че в представите му те трябва да бъда съвсем библейски – с градини и чудни южни растения, както на картинките, а тук – само борове, смърчове, камъни и мъх. И е студено – октомври, а той е без шинел, само по окървавена и раздърпана гимнастьорка. Пък и никакви порти не се виждат – освен тънките брезички над реката, прегънати от миналогодишния сняг, коит били наведени чак до земята и стояли като арки.
Дядо рекъл: „Искам да пия от ручея“, а жената не му позволила – на живите не било дадено да пият от тази вода.
– А може ли поне да вляза да се постопля? – попитал дядо. – Топло ли е там?
– Топло е… но само за мъртвите – отвърнала тя със съжаление.
– Е, поне някакви дрехи да ми дадат. Изгубих много кръв, мръзна.
– Там дрехи няма…
– Защо тогава ме доведе тук?
– Съжалих те – рекла. – Мислех, че ще умреш по пътя, а ти остана жив. Имаш здраво сърце.
– И какво да правя сега?
– Ще трябва да се върнеш в ада и да живееш. Когато му дойде времето, ще дойдеш пак тук – при извора, на същото място. Ако те попитат как си намерил пътя, ще кажеш: „Карна ми го показа.“
– Ама нали ти ми забрани да запомням пътя! Как ще го намеря?
– Когато настъпи времето, сам ще го намериш. А не ти дадох да го запомниш, за да не дойдеш преди срока.
Той я попитал кога ще настъпи този срок, и Карна отвърнала:
– Няма да ти кажа. Иначе ще започнеш да чакаш, и живот няма да имаш. Връщай се там, откъдето те взех, и чакай – ще дойдат за теб и ще те откарат в болницата.
Дядо се обърнал и тръгнал обратно.
***
И ето, когато преди четири години, когато бяхме много болни с дядо дойде Гоя, и той го помолил да умре, демек, уморих се да се мъча. Внукът нека оздравее, а мен ме изпрати в рая. С други думи - пътят ще намеря, мен Карна още през четирдесет и четвърта година ме води там. Гоят първоначално като че се съгласил, но после дал заден ход и рекъл, не мога никой да изпращам в рая, а да ти кажа кога ще умреш мога. И съобщил на дядо деня и часа на смърта, поживей си, рекъл, от душа, поне през това време.
И ето че за дядо този срок настъпи— единайсети юни хиляда деветстотин шестдесет и първа година.
Той говореше за това толкова спокойно и дори весело, че на мен ми ставаше страшно.
Може би по това време баща ми се появил на брега — вероятно е подслушал нещо и е решил, че дядо нещо бълнува…
До колкото го помня аз, а и по разказите на най-различни хора, дядо никога не е бил човек на измислиците, фантазьор или разказвач на приказки. За това е нужен особен душевен строй — мир и радост от живота.
Той не беше онзи класически дядо, при когото искаш да се сгушиш в скута, да се притиснеш и да го помолиш да ти разкаже приказка. След три войни дядо беше станал избухлив, нервен и нетърпим, ако му противоречат или нещо не е както той иска. От неговия гнев всеки е получавал по нещо — понякога без особена причина, просто ако му се изпречи в неподходящ момент.
Освен това той постоянно боледуваше, и единствената му радост беше да дочака пролетта и да поседи с въдица на реката. Всеки ден живееше така, сякаш е последен за него — и може би затова не признаваше никакви компромиси.
Първият път едва не го вкараха в затвора скоро след войната — подгонил по селото районния началник с пешня* (* - риболовно копие, бел. прев.), защото баба, за да откупи баща ми от ФЗО („Фонд за защита на отечеството“), първо дала на началника дядовия кожух, а после и половин чувал нарязан тютюн (а всъщност изобщо не е било нужно било да го откупува — баща ми не е ставал за военното училището заради осакатената си ръка). Казват, че следователите идвали няколко пъти и дори се опитали да го арестуват, но дядо седнал на тезгяха, сложил до себе си брадвата и рекъл: „Хайде, вземайте ме!“
Вторият път, и това вече го помня, той изби челюстта и зъбите на директора на леспромхоза. Онзи беше дошъл да му отнеме сенокоса, който по право се полагаше на дядо като инвалид от войната първа група, и започнал да му говори в оскърбителен тон — нещо от рода на „Аз мога и изобщо да те изгоня оттук“. В нашия край по онова време директорът беше голяма клечка, но дядо сякаш не забеляза това — с един удар го просна в снега. Спаси го кочияшът, който го натовари в шейната и го откара.
Помня кръвта в снега и разярения дядо. Размахвайки възлестите си юмруци, той крещеше, че са го прогонили първо от колхозната земя, а сега и от леспромхозната: „Какво, сега и земя ли да нямам — за която съм кръв проливал?“
Помня и как дойдоха да вземат втората крава — при Хрушчов беше позволено да се държи само една на домакинство, а в нашето семейство имаше вече девет души. Дядо беше болен, но стана от леглото, нареди на всички да мълчат и да не се показват, а сам взе вилата и тръгна на „щикова атака“ срещу председателя на селсъвета и участъковия милиционер.
Животът на дядо беше суров, пропит с груба, тежка реалност — в него нямаше място за измислици или фантазии. И това, което разказваше тогава, можеше да се обясни единствено със слънчевия удар.
Затова го слушах със сълзи на очи и отворена уста. И ако баща ми не беше дошъл на брега, може би щях да чуя още нещо необикновено и поразително. Чувствах, че разказът за пътешествието към извора на река Ура с жената на име Карна не е приключил — ако това беше първата и последна приказка на дядо, то тя беше приказка без край.
Но веднага след банята го положиха в стаята, а всички деца ни сложиха да спим — за да не се мотаем из краката, а може би и защото не искаха някой от нас твърде рано да стане свидетел на тайнството на смъртта.
Слънцето залезе, в ливадата закрещя коростел, после по Прохоровския път затрака козодой, и накрая се стъмни. Зад прозореца безшумно запърхаха прилепи. Аз обаче не спях — измислях причина да наруша майчината забрана и исках да надникна поне в стаята, където дядо умираше. Може би щеше да ме види и да ми разкаже още нещо. Или пък аз сам да го попитам.
Докато търсех предлог, в старата къща влетя баба:
– Серьожа, ставай! – извика тя. – Дядо ти те вика!
Полетях към новата изба, но още щом прекрачих прага, ме обхвана странно усещане и ме побиха тръпки: дори мирисът в къщата беше различен — едновременно познат и непознат. По някаква причина ухаеше на пирен и прясно изорана земя.
Дядо лежеше в горницата до отворения прозорец, покрит с марля. До него на масата ярко гореше керосиновата лампа с широк фитил, която се пазеше грижливо и се палеше само по изключение — когато беше нужна много светлина.
Имах пълно усещане, че той спи. Но когато се промъкнах до него на пръсти в горницата, той отвори очи.
– Серёга…
Той още разпознаваше лица и дори се усмихваше. До него, на табуретката седеше татко и държеше ръцете на дядо, зад него стоеше майка, до главата му седеше баба и аз нямаше къде да застана, освен в краката му.
- Ела насам, - рече дядо. – А вие тръгвайте.
- И аз ли? – като обидено момченце попита татко.
Той беше любимия му и единствен син; имал е и още двама други и една дъщеря, но те бяха умряли от скарлатина през двадесетте години, когато дядо е бил на поредния си гурбет.
Възникна объркване и недоумение, всички се поглеждаха един друг, но никой не излезе от стаята, навярно защото се страхуваха да ме оставят сам с дядо, ами ако се изплаша и започна да заеквам (имаше такова поверие, според което не бива да се оставят децата сами с умиращ човек), или пък всички бяха сметнали, че той бълнува и не е задължително да изпълняват неговите искания.
Промъкнах се между баба и баща ми.
— Нищо, Сережа — успокои ме дядо. — Нека и те слушат, те са несъобразителни и слепи, нищо няма да разберат. На мен вече не ми е писано да ходя с теб за риба, а толкова ми се искаше да уловя вальок. Сега рибата кълве здраво, само хвърляй и вади. Зная място, където кълве, и ще ти го кажа… Зад планината Манарага, при Леденото езеро. Знаеш ли къде е Манарага? Леденото езеро е точно зад реката. Вальокът идва там да хвърля хайвер. Не гледай, че езерото изглежда самотно — само изглежда така. Там има много реки — влизат и излизат, само че са под земята… Но внимавай — на никого нито дума! Уста на катинар. Гоят на мен ми отмери точен срок и аз вече няма да стана, ти ще ходиш сам.
— Не знам къде е тази планина — казах през зъби, за да не се разрева.
— Манарага все ще я намериш! — махна дядо с отпусната ръка.
— Видна планина е, висока. Горе на върха има хора … А как да намериш езерото — ще те науча. Значи, като се изкачиш горе, гледай на юг — при ясно време то се вижда, осем версти право напред. Понякога езерото е бяло, понякога синьо, а на залез — огнено, и кръгло. Отзад има отвесни скали, подредени като в полукръг, а отпред е открито място.
Езерото се вижда добре. Като слезеш от планината, ще стигнеш до река Манарага. Тя е шумна, но плитка на това място — ще я преминеш лесно в брод. После малко нагоре ще походиш, и ето ти Леденото езеро. Само че, тръгни рано сутринта и върви все направо към слънцето. То се движи — и ти върви, и по обяд ще те изведе точно на брега. А къде кълве вальокът — сам ще намериш, мястото само ще ти се покаже. Аз и белег съм оставил — въдицата съм забил там. Ако видиш Гоя, гледай да не му се показваш, че ще те вземе. Не си е забравил сигурно обещанието, нали знаеш…
Вече не можех нищо да питам — буца стоеше в гърлото ми, сълзите напираха, не можех да мигна. Дядо ни забраняваше да плачем и винаги се ядосваше и ругаеше, ако някой зареве.
— Сега иди и си лягай — заповяда той. — И утре не ходи — ще ме погребеш първо, после… Всички да си лягате. Какво сте се разсядали? Какво чакате? Мислите, че ще кажа още нещо ли?
Дядо не каза повече нито дума. После баба разказваше, че е затворил очи и като че е заспал. Родителите не се отдалечавали от него — така си и седели край леглото до зори, мислейки, че той спи, и едва след това се сепнали, разбрали, че дядо отдавна е починал, и покрили огледалото…
Три думи
Двете странни, грохотящи думи — Карна и Манарага — се врязаха в съзнанието ми още от детство и после дълги години не съм ги чувал от никого повече. Третата беше Ура, но тя, привична, не звучеше така омагьосващо. След смърта на дядо няколко години предпазливо, уж между другото, питах къде се намират планината Манарага и река Ура — всички хора, на които имах доверие.
Образованият чичо Саша Русинов (завършил Лесотехнически техникум и изучавал топография) нищо не знаеше, но за да не се изложи, каза, че племето гои живее в Дагестан и че един негов представител работи в неговия горския участък и фамилията му е Гоев. Река Ура, каза той, тече в Уругвай, а планината Манарага се намира в Испания.
Не му повярвах, защото дядо никога не е бил в тези краища и не е могъл да бъде.
Киномеханикът чичо Гена Колотов, изгледал през живота си хиляди най-различни филми, нещо такова бил виждал, но в кой точно филм — не помнел, приблизително — индийски навярно. Чичо Паша Кудинов, който живееше в град Томск и идваше с приказната за нас тогава лека кола „Москвич“ (носеше дори вратовръзка и красиви копчета за ръкавели), ме погледна някак прекалено внимателно и предпазливо отвърна:
— Такива названия никога не съм чувал…
— А има ли такова име - Карна?
— Възможно е да има, но не е руско.
После каза на родителите ми, че задавам странни въпроси, имам някакви фантазии, и че не е лошо да ме отведат на лекар, докато не е късно. Баща ми се отнасяше към любопитството ми с разбиране и лекота — възрастта му е такава, интересно му е на момчето, ще порасне и ще му мине, дай му пушка и весло — това ще бъде поприще за него. А майка ми, на петата година след явяването на Гоя, се разболя от базедова болест, стана мълчалива, замислена, като нашата река привечер, и най-често отговаряше неадекватно. Баба обикновено махаше с ръка — не знам, не ме занимавай — и веднъж се разсърди: защо, казва, повтаряш всякакви глупости след дядо си? В бълнуване е бил след слънчевия удар, говорил е какво ли не, и е объркал главата на детето. А аз чувствах, че тя знае, но крие истината от мен, и че тази истина е свързана с нещо много важно и болезнено в живота ѝ.
И едва след двадесет и една години, когато направих първия си опит да напиша повест за дядо, тя дълго се дърпаше — демек дядо ми е замъглил ума още от малък, но после ми откри все пак някои неща…
Оказва се, че баба цял живот е страдала от ревност: жената, взела моя болен от тиф дядо от станцията, е постъпила така уж не безкористно. Помогнала е на дядо да оздравее, да, но го е и женила на дъщеря си – стара мома. И им се е родило дете, момче по име Олег.
Не след дълго дядо избягал от своите спасители, обаче винаги е помнел своя син, и това за баба беше голяма болка. Обидена за цял живот, тя го ревнуваше, когато той тръгваше на сезонна работа (сигурно жена има там, иначе защо да ходи толкова далеч?) и си спомняше събитията от есента на четиридесет и четвърта година, когато Карна беше водила дядо на река Ура. Той е викал Карна в полусъзнателно състояние, когато е бил много болен, името ѝ се струваше на баба много страшно...
За последен път аз питах за таинствените планина и река в пети клас нашата учителка по руски език и литература Юлия Леонидовна.
В ТОрба, където живееха предимно заточени преселници, наети работници и бивши затворници, и където нравите бяха съответни, тя беше дошла на преддипломна практика. Когато влезе в клас, стори ми се, че чудо е станало – тънка, нежна. Тежката ѝ, дълга кестенява коса през цялото време дърпаше настрани нейната малка глава, и невисокия ѝ, хипнотизиращ глас звучеше като пролетно поточе. Дадоха ѝ веднага съответен прякор – Въдица, може би защото постоянно кимаше с глава, по-точно сваляше главата си надолу. А пък аз се влюбих веднага и поради това цяла зима старателно учех по нейните предмети, и дори петици получавах, за да ме забележи и да ми обърне внимание. Не ми стигаха учебните часове да ѝ се нагледам, и висях пред вратите на другите класове, където тя преподаваше литература или я чаках навън, скрит в някой ъгъл, за да не ме види.
Продължение следва
Оригинален текст
Сергей Алексеев
Сокровища Валькирии VI
Правда и вымысел
Анонс
Десять лет читатели спрашивали Сергея Алексеева: существует ли Валькирия на самом деле, насколько реальны события, происходящие в его романах?
Новая книга дает ответы почти на все вопросы.
В детстве, когда автор лежал больной, при смерти, его спас чужак, владеющий языческими чарами. После этого в жизни Алексеева стали происходить странные события. Ему стало необходимо:
- попасть на гору Манарага, что на севере Урала;
- найти подземную цивилизацию гоев-гиперборейцев;
- поймать золотую рыбку валек;
- встретиться с Валькирией.
Автору почти удалось достичь своего, и Валькирию он встретил. Вот здесь и скрыта самая большая тайна...
Валек - золотая рыбка
Мы умирали с дедом в феврале 1957 года: он от тяжелых фронтовых ран, а я - от никому не известной и не понятной болезни. У деда в госпитале отняли половину легких, вторая половина сейчас отекала и до смерти оставалось совсем немного, однако из-за сильного и мощного сердца он справлялся с удушьем и порой даже начинал разговаривать со мной бодрым прерывистым шепотом. Я лежал пластом, как парализованный, утратил дар речи, не двигался, не испытывал никакой боли, возможно потому, что был ледяной и по выражению матушки, таял, будто весенняя сосулька. Однако при этом обостренно видел, слышал и чувствовал все, что вокруг происходит.
Дед привык умирать, а я еще не знал, что это такое, поэтому мы оба хладнокровно лежали и ждали последнего часа. Хладнокровно в прямом смысле, потому что температура у меня упала до тридцати четырех градусов. Бабушка днями и ночами стояла на коленях перед иконами в горнице, где был дед, но молилась за меня, и то ли от отчаяния, то ли по незнанию просила боженьку внука оставить, а деда прибрать, причем, обращалась к нему без всякого страха, как-то по-свойски, будто с соседом договаривалась. Отец все время тулупа не снимал, куда-то ездил на лошади, искал врачей, но возвращался один и громко матерился; матушка, если не суетилась по хозяйству и не пестовала братьев-двойняшек (сестра уже ходила в школу и жила на квартире в Торбе, за семь километров), то сидела возле постели, грела мои руки и крадучись плакала потом в закутке. Никто не знал, сколько нам оставалось жить, пока отец наконец-то не привез откуда-то фельдшерицу, большую, румяную тетку. Она посмотрела мне в рот, в глаза, перевернула с боку на бок, словно трупик, смерила температуру.
- Не долго осталось. - будто утешила она родителей. - Холодный, с такой температурой не живут. К деду не прикоснулась, лишь взглянула издалека.
- До вечера не дотянет, - определила ему срок. - Вот-вот отмучается.
И выписала нам обоим справки о смерти. Это чтобы лишний раз не ехать за сорок пять верст по метельной февральской дороге.
В то время мои родители еще безоглядно верили в медицину и после такого заключения в доме сразу стало тихо, заговорили шепотом, но я все слышал. Матушка готовилась бежать в Торбу за моей сестрой и чтоб дядя Саша Русинов сообщил родне. Он был образованный, работал начальником лесоучастка, и у него в конторе был единственный телефон.
- Ничего, Серега. - громко сказал дед, когда отец повез фельдшерицу в обратный путь. - Весна скоро, река разольется. Мы с тобой на рыбалку поедем. Поймаем рыбу валек. Я знаю место, где она клюет.
Про эту невиданную рыбу он говорил давно, все собирался выловить ее в нашей реке Чети, искал место, где водится, однако так ни разу и не поймал. И никто у нас в округе валька не то, что не ловил, а и слыхом не слыхивал. Дед любил рассказывать про эту рыбу, но только когда мы оставались вдвоем в лодке, где-нибудь под крутояром, подальше от чужих ушей, и еще всегда предупреждал, чтоб я держал язык за зубами. По его словам, валек отличается от других рыб не размерами, красотой или вкусом, а тем, что по достижению определенного возраста приплывает в реки из океанских глубин один раз в жизни, чтоб наглотаться золотых самородков. Рыба эта точно знает все речки, ручьи и проточные озера, где есть россыпи, и если поймал, значит, тут и золото ищи. Причем, ее ничто не задержит - ни пороги, ни высокие водопады, ни мели, только б воды было с вершок, везде пройдет, перепрыгнет. Заходя в реки через холодные северные моря, в поисках россыпей, поднимается до самых Саян и Алтая. Бывает, ловят валька даже в горных ручьях за многие тысячи километров от моря. А наглотавшись золота, спускается эта рыбка вниз и возвращается в океаны, где и живет до смерти на страшной глубине, никакой сетью не достанешь.
Вот она-то и есть сказочная золотая рыбка!
Если поймать валька и вспороть, можно найти до горсти самородков.
Дед объяснял пристрастие этой рыбы к драгоценному металлу не жадностью, как бывает у людей, а жестокой необходимостью: золото выполняло роль балласта, чтоб спускаться на дно океана за каким-то специфическим кормом. Размером она была не крупная, ровно сорок сантиметров, как на подбор, и вес имела не большой, до двух фунтов, потому без дополнительного груза спуститься глубоко не могла. А если она не поест этого корма, то не может отметать икру, то есть размножаться. Так что, чем больше в желудке золота, тем дольше валек может оставаться на дне, кормиться и продлять свой род. Однако же иные рыбы от жадности глотали такие крупные самородки, что потом всплыть не могли и погибали от высокого давления.
Мой дед не был наивным фантазером, никогда не тешился несбыточными надеждами, а скорее относился к реалистам и прагматикам, ибо жизнь прожил суровую, но при этом не утратил природного любопытства. Поймать валька он рассчитывал по чисто практическим соображениям: найденное золото думал сдать государству, а на положенные двадцать пять процентов купить отцу мотоцикл - ни охотой, ни рыбалкой, ни бондарным промыслом заработать на него было невозможно. Дело в том, что однажды ему стало совсем худо, и дядя Саша Русинов повез его на мотоцикле в больницу. Едва они помчались на этой двухколесной чудо-технике, как у деда прекратилась одышка, он в буквальном смысле ожил, сидел в заднем седле, смеялся и пел, а когда приехали в больницу, велел поворачивать назад.
Он верил в мотоцикл, как в лечебное средство.
Вечером дед не умер, но мне стало еще хуже. Однако я по-прежнему не чувствовал боли. Оказывается, у меня закрылись глаза, и почти исчезло дыхание, чего я не заметил. Чудилось, что на улице весна, разлив, мы с дедом сидим под яром в долбленке и ловим рыбу валек.
Хорошо и страшно, потому что вода вокруг вспучивается, крутится глубокими воронками. Я был на рыбалке и одновременно слышал и будто бы видел, что происходит вокруг. К вечеру пришли мои крестные - дядя Анисим и тетя Поля Рыжовы, наши единственные соседи: деревня была всего на два двора. Они сели возле меня и, кажется, просидели всю ночь.
Месяца за три до болезни я страшно захотел соли и начал есть ее горстями. Родители это заметили, сперва даже посмеялись, затем поругали и спрятали солонку - я стал воровать. Сначала из мешка в старой избе, но когда и его убрали, то у коров из яслей, где лежала огромная серая глыба. Брал молоток, пробирался в стайку, откалывал кусочки и сосал, как леденец. До сих пор помню этот потрясающий и притягательный вкус; ничего кроме соли, я не ел с такой жадностью и страстью ни в детстве, ни потом. У коровьей глыбы скоро был пойман с поличным, лавочка и тут закрылась и тогда я стал бегать к крестной.
Тетя Поля в тайне от всех насыпала мне маленькую синюю плошку и это было лучшее угощение. Однако дядя Анисим увидел это дело, и настрого запретил давать мне соль.
Я был уверен, что заболел только по этой причине. И чтобы вылечить меня, надо-то было всего - дать горсть соли. Но об этом никто не знал, а если я начинал просить и говорить, что поможет только соль, никто не верил - мало ли что больной ребенок говорит...
Тетя Поля сидела возле постели и мне хотелось попросить у нее хотя бы крупинку, но язык уже давно не шевелился и голоса не было, а сами они не догадывались, что мне нужно.
‘5 ‘8 ‘6
Так я дожил до утра и на восходе солнца, когда буран ненадолго улегся, к нам и явился этот человек. Сначала я его только слышал - тихий, гудящий голос, объясняющий бабушке, что ему не холодно, он ничуть не замерз и чаю пить не станет. Он был странно одет: белая, шелковая рубаха с пояском и цацками, а сверху большой ямщицкий тулуп нараспашку. И на ногах, в мороз и ветер, красные хромовые сапоги в обтяжку!
Мы жили на границе двух районов, на единственной в наших местах дороге, и то зимней, конной. Проезжий народ заходил к нам погреться и потому самовар или на худой случай, чайник, были всегда наготове.
Обычно путники снимали тулупы, валенки (чтоб скорее согрелись ноги), усаживались к печи, матушка наливала им чаю из шиповника с медом и подавала горячие кружки.
Этот путник даже не присел с дороги, хотя был пеший, только шапку снял, тулуп в угол скинул и будто бы сразу определил, что в доме кто-то умирает. Отец еще не вернулся и потому бабушка, как большуха, встретила этого странноватого гостя настороженно и поначалу вроде бы скрыть попыталась семейное горе. Однако путник без спроса вошел в комнату и склонился надо мной. Причем, так низко, что я ощутил его лицо над своим и открыл глаза.
Скорее всего, это был старик, по крайней мере, в памяти осталась густая, крепкая, словно из проволоки, и совершенно белая борода с большими усами, длинные, с сильной проседью волосы, однако мне до сих пор кажется, что он не был старцем и вообще старым человеком. Я не запомнил лица, или его черты потом стерлись в сознании; остался лишь некий образ - орлиный, пугающий и одновременно завораживающий. Он распрямился и, постукивая палкой об пол, опять без позволения, зашел к деду в горницу, по-хозяйски притворив за собой дверь.
Мать с бабушкой должно быть, сробели, ничего ему не сказали, зато обрадовались, что я открыл глаза. Стояли возле постели, звали меня по имени, просили сказать что-нибудь, но сами косились на дверь горницы, тревожно переглядывались, а путник все не появлялся. Представление о времени исказилось, я осознавал лишь день и ночь, и сколько пробыл незнакомец у деда, отметить не мог. Матушка потом говорила, часа три, но мне показалось, он зашел и тут же вышел. Что он там делал, никто не видел и заглянуть в горницу не посмели, даже моя смелая и властная бабушка, которая опасалась, как бы этот прохожий чего не украл да не ушел через окно. Воров и разбойников в наших краях хватало, потому что в окрестных леспромхозовских поселках полно было вербованных и сибулонцев - зеков, когда-то отсидевших в Сиблаге и осевших по деревням. И даже при этом она не насмелилась хотя бы подглядеть, что происходит в горнице и только ворчала:
- Ну что вот, а? Что они там шушукаются, лешаки? Может они знакомые?.. И Семен не зовет... Кабы дурного ничего не сделал. Глаза-то у него черные, цыганские.
Деда моего звали Семен Тимофеевич...
Когда же гость наконец вышел, то сразу стал командовать.
- Положите их вместе. В одно помещение!
- Да ведь нехорошо будет, - воспротивилась бабушка. - Нельзя ребенку смотреть, как дедушка помирает...
- Он не помрет, - заявил незнакомец. - А вдвоем им легче бороться будет. Перекладывайте мальчишку в горницу!
Матушка подняла меня вместе с одеялом, перенесла и уложила на бабушкину постель, напротив деда. Я обрадовался, хотел протянуть к нему руку, но не смог. Однако я заметил, что дед повеселел.
- Ладно, потом и поручкаемся. - сказал он. - Когда сила появится.
Незнакомец развязал свою котомку, достал кисет, и оттуда не табак извлек, а горсточку крупных кристаллов.
- Ну-ка, открывай рот! - приказал. - Да только не глотай.
Через секунду у меня был полный рот соли! Я стиснул зубы, чтоб не отняли, поскольку бабушка уже сделала строгое лицо и завела:
- Что ты дал-то ему, лешак?
-
- Соли дал, - обронил путник, наблюдая за мной. - Захочешь воды - скажешь.
Я не пил уже несколько дней...
- Да разве можно робенку столько давать? - возмутилась бабушка и двинулась ко мне.
- Можно, если просит. Вы посмотрите кругом, метель второй месяц, солнца нет, как же без соли?
- Да где это видано?..
- Мальчишка просил?
- Просил, дак ладно ли...
- Ладно! А вы не дали! Ох, темнота кромешная... Ребенок знает, что хочет. И лучше вас!
- А ты кто будешь-то? Лекарь, что ли?...
- Я и лекарь и пекарь! - огрызнулся путник. - Болезнь запустили, оголодал ребенок, теперь одной солью не обойдешься. Тело лечить надо!
У него жила иссохла.
Тем временем я рассосал всю соль, дотянулся до рта и показал, что хочу пить.
- Чего маячишь-то? - ворчливо спросил путник. - Чего надо? Если воды хочешь, так и скажи.
- Пить хочу! - неожиданно для себя выдавил я.
- Ну вот! А я уж думал, ты язык проглотил! - забалагурил он. - Ну-ка, дайте парню воды!
Матушка стала поить меня из ложки, а бабушка увидела, что я зашевелился и заговорил. Теперь она наконец-то подобрела к путнику и сдалась.
- А как тело-то лечить?
- Как лечить... Побегать придется.
- Дак побегаем, коль надо.
- Ну-ка, покажите мне скотину! - вдруг велел путник.
Бабушка накинула полушубок и безропотно повела его во двор.
Обычно привередливая и строптивая, она теперь была готова на все и даже не спрашивала, зачем незнакомцу потребовалась наша скотина (ее особенно чужим не показывали, колдунов боялись, которые могли изрочить корову - молоко присохнет или не растелится).
Они скоро вернулись, гость был озадачен.
- Не годится. Нужен красный бык.
- Да где же его взять? - охала бабушка. - Я красных и не видала сроду...
- Не знаю, думайте, вспоминайте, ищите. Чтоб обязательно красный, без единого пятнышка. Иначе парню не встать на ноги, так и останется лежнем.
Я слышал, как мать с бабушкой начали вспоминать, у кого по деревням какой масти скотина, и все получалось, только красно-пестрая.
А путник твердил про красного быка и заставлял думать. Наконец, матушка вспомнила, что в Чарочке у Голохвастовых красная корова и вроде бы без пятен.
И вдруг у них есть прошлогодний бычок?
- Хозяина нет, кто поедет? - загоревала бабушка. - А до Чарочки двадцать верст...
- А ты сходи и приведи! - приказал путник. - Хочешь, чтоб внук поднялся - иди.
Та было засобиралась, однако передумала и послала матушку - должно быть, все-таки опасалась оставить на нее избу и больных. Мать оделась, заглянула в горницу, погладила меня по волосам.
- Я скоро, Серенька, потерпи....
Тем временем бабушка крадучись от чужака в доме достала из сундука старый медный чайник, в котором хранились деньги (копили на мотоцикл), вынула все, что там было, даже мелочь, отдала матери, заплакала, зашептала:
- Ой, боюсь я его, вон как зыркает. Не знаю, к добру ли, к худу принесло лешего. Да ведь что нам робить-то? Ой-ей-ей... Ну, иди с богом, уж как-нибудь...
Матушка поцеловала меня и пошла.
- И гляди, комолого не бери! - вслед ей сказал путник. - Обязательно, чтоб с рогами был.
- Господи, боже мой! - только и ахнула бабушка. - Еще и с рогами надо...
И мать ушла за красным быком. Она так любила нас, что сказали бы ей привести зеленого, она бы нашла и привела. А путник зашел в горницу с поленом, бросил его вместо подушки, лег на пол и захрапел. Бабушка не утерпела, на цыпочках к дедовой постели подкралась, разбудила и что-то долго шептала, косясь на незнакомца.
- Иди, ступай, - отчетливо сказал дед. - И не чеши языком. Чего разбудила-то? Сон хороший видал, Карна приходила.
Тогда я еще не знал, кто это - Карна, однако бабушке это имя было известно, поскольку она тут же надулась и сердито зашвыркала носом.
- Ладно, будет, - проворчал дед. - Быка-то нашли?
- Валю в Чарочку послала, - призналась бабушка. - Все деньги ей отдала...
- Зачем все-то?
- А ежели он разбойник какой? Трофима нет, перебьет нас, да и поминай как звали. Ты глянь-ко, ведь истинно лешак, а зыркнет, так страх берет. Ведь что сказал? Чужих в избу не запускайте, мол, чтоб меня тут никто не видал. И никому словечка не скажите про меня!... Это на что ему, чтоб не видали, не слыхали? Ох, худое замыслил, лешак...
- Он не разбойник, - рассудил дед. - И не лешак.
- Ну, бродяга, или сибулонец...
- И не бродяга. Он человек другой породы. Слушайся его и не перечь.
Бабушке и это не понравилось, но из-за своего характера согласиться и промолчать не могла.
- У ихнего брата одна порода: ходят да смотрят, что плохо лежит, - умышленно громко заворчала она и ушла, по путник не проснулся.
Отец увез фельдшерицу и приехал немного выпивший, ввалился в горницу прямо в тулупе, схватил мои ладони своими горячими руками.
- Живой, бродяга...
**
И лишь потом увидел незнакомца.
Отец был человеком вспыльчивым и даже отчаянным, если его раскачать. Сам драк не затевал, но если за живое задели, тогда держись, биться будет насмерть. Возможно, потому отца считали смелым и дерзким человеком, хотя на самом деле сам он так о себе не думал, и я не раз был свидетелем, как он проявлял чудеса смирения, чтоб не ходить в рукопашную.
Тут он вдруг сробел, растерялся, к путнику даже не подошел, ничего не спросил (почему это чужой человек в горнице спит?), только посмотрел на него внимательно и чуть ли не убежал. Я слышал, как они шептались с бабушкой, но одновременно ревели оголодавшие братья-двойняшки, так что я ничего не разобрал. Потом выяснилось, что отец распряг измученного коня, завел в стойло, а сам встал на лыжи и ушел в Яранское, искать красного быка, потому что только там имелась скотина подобной масти.
И будто в прошлом году он сам видел годовалого быка у Пивоваровых и еще удивился, какой он красный и яркий.
Отец всего лишь четыре года ходил в школу и даже в армии не служил из-за сожженной в детстве, изувеченной левой руки, однако при всей кажущейся темноте, всю жизнь тянулся к знаниям, много читал и искренне верил в науку. Особенно после того, как год назад в космосе появился первый искусственный спутник. Хорошо помню, как он несколько ночей не спал, бегая под звездным небом, и всем спать не давал, кричал, прыгал, хохотал, а потом играл на гармошке и раззадоривал матушку - говорил, что отмечает праздник человечества, но бабушка издыхала: мол, в отца бес вселился. Ко всякой ворожбе и колдовству он относился с усмешкой, людей, которые верят во все это, считал дураками. И потому оставалось загадкой, что с ним сделалось, если он вдруг бросился искать красного быка.
Матушка вернулась через сутки ночью с пустыми руками, оказывается, успела обойти несколько деревень, добралась чуть ли не до райцентра, пересмотрела полсотни быков, своих и колхозных, однако такого, как требовал путник, нигде не было. Ей советовали сходить в Черный Яр, в другой район, где якобы видели совершенно красного теленка, только неизвестно, быка или телку. И вот теперь матушка примчалась, чтоб глянуть, что дома творится, перевести дух и бежать дальше.
Путник все это время проспал на полене и наконец-то проснулся, встал сердитым, от еды отказался, только ковш воды из кадки выпил и начал ругаться на матушку, дескать, темные вы и полоротые люди, даже красного быка не можете найти. И сказал потом, постукивая пальцем по столу:
- Если к утру не приведете мне быка, я пойду и найду сам. Но тогда вашего мальчишку заберу и уведу с собой.
Женщины перепугались, бабушка немедля запрягла отдохнувшего коня и поехала, как в сказке, - куда глаза глядят. Матушка, видимо, решила задобрить гостя, на стол собрала, выставила бутылку водки, но тот пить-есть решительно отказался, дверь в горницу прикрыл, чтоб мы с дедом ничего не слышали, и начал с матерью какой-то разговор. Бубнили они долго, чуть ли не до утра, пока отец не пришел.
- В нашем районе красных быков нету! - заключил он и пошел смотреть, жив ли я.
Куда ездила бабушка, неизвестно, однако к восходу поспела, и когда ее увидели в окно, дома сразу же возник радостный переполох: за санями шел бык, привязанный к пряслу.
- Ведет! Ведет быка!
Отец с матушкой выбежали на улицу, а гость, говорят, даже в окно не посмотрел, только покряхтел и начал собираться.
- Ладно, полоротые, сидите и ждите. Сам пойду! - сказал он, когда все вернулись в избу.
- Дак чем этот-то не подходит? - возмутилась и перепугалась бабушка. - Ведь ни пятнышка на нем, с рожищами этакими и весь красный!
Я же за него, лешака, столь денег отдала!
- А на лбу у него что?
- Дак звездочка на лбу! И то махонькая!
- То-то и оно! - путник зашел в горницу и сунул мне в рот всего один кристалл соли. - Это значит, бычок родился ночью. А надо, чтобы на заре!
Хлопнула дверь, и в избе наступила полная тишина.
Должно быть, родители сели за стол, советоваться. Они всегда так делали, если требовалось обсудить что-либо важное, однако дед проснулся, откашлялся и кликнул бабушку.
- Вы там особенно не суетитесь, - сказал спокойно, без одышки. - Не найти нам быка. Пускай он приведет.
- Он-то, лешак, приведет! - сразу завелась бабушка. - Да ведь Сережку заберет за этого быка! Сказал: ежели сам найду, мальчишку с собой уведу!
- Так и так его уведут. Пускай уж он возьмет.
- Как - уведут!?
- Ну, вырастет, найдется ему девка какая и уведет! - засмеялся дед и ко мне повернулся. - Ты-то как хочешь? Жениться или по свету походить?
- Сам всю жизнь бродяжил! - закипятилась она. - Сколь ты дома-то прожил, лешак? То война, то промысел, то и сказать грех - бабенки гулящие. И не лежи сейчас, дак убежал бы опять куда!
- Да будет тебе! - добродушно отмахнулся дед. - Раз парню судьба такая выходит, ничего не сделаешь...
Бабушка видела, что мы оживаем, и уже ничем жертвовать не хотела.
- Ты что же, внука ему отдашь? Чего он такого сделал, чтоб робенка забирать? Да где это видано?! Вы, должно, сговорились с ним!
Дед завернул таким матом, что бабушка сердито засопела и умолкла - вот это была игра слов! Однако не надолго, скоро опять подсела к деду, спросила примиряюще:
- И на что ему бык-от? Вот заладил, ищи ему быка да и все. Как это он лечить собирается?
- Не наше дело, не лезь, - спокойно посоветовал дед - тоже не хотел ссориться. - Ничего мы не понимаем в этом деле, и понимать нам не надо. Вылечит, и ладно.
- А вы про что с ним три часа кряду разговаривали? - подозрительно спросила бабушка. - Ты его знаешь, что ли?
- Его не знаю, а людей из их племени встречал.
- Это что за племя такое?
- Ну есть такое племя, на нас не похожее. Гои называются.
- Дак чего, нерусский он, что ли?
- Почему нерусский-то? Русские они...
- Что-то я не слыхала про этакое племя...
- Да ты много чего не слыхала и не видала...
- И где они живут?
- Кто их знает? Везде живут, ходят, ездят...
- Значит, цыгане! - определила она. - Я так и думала! То-то гляжу, зыркает!
- Не цыгане они! - дед что-то скрывал и потому терпел, еще не ругался, но был уже на пределе. - Порода такая, гои. Хорошие люди, совестливые, дурного не делают, живут по справедливости. И больше ничего не знаю.
- Знаешь, да сказать не хочешь! - не унималась бабушка. - А то бы три часа сидели шушукались... Тебя от тифа в гражданскую кто вылечил?
Тоже эти гои? Уж не от нее ли лешак этот явился? От старухи-то, с которой ты робенка прижил?
Дед даже материться не стал, махнул рукой, отвернулся к стенке и замолчал, а бабушка закусила губу, взяла красного быка со звездочкой в повод и повела назад, откуда взяла.
Тогда я еще не знал, что приключилось с дедом в гражданскую войну, об этом в семье никогда не говорили, и не понимал бабушкиной подозрительности и пытливости, однако с той поры запомнил это слово - гой, и когда сказки читал, где баба-яга спрашивала, мол, гой еси, добрый молодец, то сразу вспоминал этого путника и все понимал. Но однажды на уроке, кажется, во втором классе, кто-то спросил, что это значит, и учительница неожиданно заявила, дескать, это просто игра ничего не означающих слов. Согласиться с таким суждением я не мог, поскольку
Гоя видел живьем, а "еси" знал из молитвы, которую слышал каждый день и знал назубок: "Отче наш! Еже еси на Небеси...". Чтоб было понятнее, бабушка переводила для меня молитвы, и это звучало так:
"Отец наш! Ты есть на Небе". Потому баба-яга не играла в слова, а конкретно спрашивала - гой есть, добрый молодец, или нет?
Все эти свои знания я и вывалил учительнице. Реакция оказалась непредсказуемой: батю вызвали в школу и стали ругать, что у нас в семье мракобесие и религиозная пропаганда. В общем, он вернулся домой и с помощью ремня объяснил мне, чтоб научился держать язык за зубами и в школе не разбалтывал, чему учат и что говорят в семье.
Но это уже было потом, а сейчас бабушка свела негодного быка, вернулась еще более сердитая и заявила решительно.
- Хоть какие они, эти твои цыгане совестливые, а внука своего не отдам! И не надо нам ихнего быка и лекарства!
- Я говорил, не цыган, он, а гой, - терпеливо напомнил дед.
- Все одно, ко двору близко не подпущу! Пускай идет со своим быком...
- Лучше пусть внук помрет, что ли? - взвинтился он. - Или лежнем на всю жизнь останется? Раз обычай у них такой - на ноги поднимет, пусть забирает. Худого не будет, а может, внук через него в люди выйдет, мир посмотрит.
- Вот, опять свое начал, - забранилась бабушка. - Вечно путаешься с кем попало, всяких цыган в избу пускаешь. А ведь старик уже, три войны прошел...
На сей раз дед запышкал, словно рассерженный медведь и подтянул к себе еловый батожок. Батог** – тояга, пръчка
Нелюбовь к цыганам у нас в семье началась с того, что месяцев в восемь они меня чуть не украли. Я не помню этого случая и знаю по рассказам, что к нам в деревню на ночевку заехали цыгане. Это был какой-то не покорившийся власти табор - им после войны запретили кочевать, а они будто уходили в дали несусветные - аж в Сербию. Цыгане встали за поскотиной и развели костры, но попросили, чтоб детей с одной старой цыганкой пустили переночевать в избу - дело было зимой.
Бабушка как чувствовала неладное и пускать не хотела, мол, вшей натащут и украдут что-нибудь, однако дед на правах главы семьи разрешил. Около десятка цыганят поместилось на печи и полатях, двух грудничков положили на топчан за печкой, а сама цыганка пристроилась на полу. Бабушкино сердце не выдержало, раздобрилось. Сначала она подала детям миску с медом (была своя пасека и добра этого хоть залейся), затем предложила чаю цыганке, наконец, разговорилась, начались гадания по картам, по черной книге и по руке, и в результате все узнали свою судьбу, в том числе, и я. Цыганка сулила мне жизни семьдесят шесть лет и смерть от воды - она всем щедро раздавала сроки жизни, богатство и счастье, даже корове, которая должна была принести скоро двух телят и даже отцовой Карьке, казенной сельповской кобыле, много лет не жеребившейся.
Несмотря на свою либеральность, дед на ночь выставил караул - послал отца на двор, охранять хозяйство. Под утро двое цыган сделали попытку приблизиться к конюшне, видно, высмотрели красивую на вид, но с перебитым задом Карьку, однако на встречу им вылетела спущенная свора собак и отец с ружьем. Поднялся лай, шум и в это время старая цыганка начала будить и собирать детей в потемках. Мать почувствовала опасность, встала и зажгла лампу и тот момент, когда старуха с двумя грудничками на руках и выводком цыганят выпрастывалась на улицу.
Вместо меня в зыбке лежало полено, завернутое в пеленки! Цыганские дети не плакали, и потому мать сориентировалась, вырвала из рук воровки орущий сверток. Тут все повскакивали, начался крик, бабушка пошла в атаку с ухватом, прибежал отец. А в таборе уж и кони запряжены и взнузданы, забросили детей в повозки и взмахнули бичами.
Когда родня немного пришла в себя, меня развернули и тщательно осмотрели. Все определили, что это я, однако бабушка засомневалась - вроде, и родинка на щеке была чуть ниже, и глаза вместо голубых стали синие, и мягкие, белые волосенки на голове будто бы потемнели.
Несколько дней она подозревала, что меня подменили, думаю, чтоб досадить деду - он пустил старуху с цыганятами! Потом и она признала за своего, но когда подрос, еще лет пять пугала меня цыганами, особенно зимой, в морозы, чтоб я не просился на улицу. У нас был тулуп из плохо выделанных овечьих шкур, который от холода становился колом, так вот она ставила его в сенях, приоткрывала дверь и показывала:
- Вон цыган стоит! Выйдешь - украдет и увезет с собой.
Я боялся цыган до тех пор, пока не услышал их песен...
Ситуация сейчас складывалась подобная, меня мог забрать этот путник из
племени гоев и куда-то увести, но удивительно, я не испытывал страха, напротив, хотел, чтоб он вылечил нас с дедом и забрал с собой. И мы бы взяли коней и поехали, как три богатыря на картинке из журнала "Огонек", которым была оклеена перегородка горницы.
Родители рассуждали иначе, а точнее, спорили с дедом-либералом, который мог отдать меня проходимцу, чтоб только я остался жив. Все остальные готовы были странного путника выгнать, как только он меня поставит на ноги, а то милицию вызвать с сельсоветом, если потребует мальчишку себе и начнет задираться. Дед один стоял против всех, смеялся и отмахивался:
- Ох, и дураки же вы! Да как же вы не понимаете? Это что, заместо благодарности - взашей?
Не помню, сколько наш гость ходил, говорили по-разному, от нескольких часов до суток.
И никто не торжествовал, когда он явился с красным быком, причем, не на веревке привел, а будто двухгодовалый бык сам за ним шел. Денег за него не спросил, а сел на лавку точить нож, и долго ширкал им по наждачному кругу, пробовал остроту пальцем, затем велел матушке затопить железную печь в старой избе и позвал с собой отца в качестве подручного. Отец потом и рассказал, как необычный гость забивал быка.
Родитель мой всю жизнь проработал охотником-промысловиком, держал коров, свиней и овец, знал многие хитрости добычи зверей и забоя скота, кое-чему и меня стал учить лет с двенадцати - воспитывал хладнокровного и одновременно сострадательного мужика. То, что он увидел в старой избе, не укладывалось в рамки крестьянского воображения. Привередливый путник велел расстелить на полу чистую солому, после чего привел и поставил на нее быка - опять же без веревки. Конским скребком и щеткой тщательно вычистил его с головы до ног, а копыта и рога вымыл теплой водой с мылом, затем приказал отцу вымести солому, сжечь ее и принести свежей. Все эти приготовления утомили, батя ждал, когда путник возьмется за нож, а он все тянул, медлил: то у окна стоял, то у быка позвоночник зачем-то прощупывал от головы до репицы хвоста, то дрова в печку подбрасывал и сидел, будто бы грелся. Отец едва терпел, чтоб не вмешаться: если он был колдуном и лекарем, то каким-то непутевым и быка такого же привел - центнера под три, морда свирепая, уже в складку пошла и рога ухватом, а стоит смирно, как овечка, которая смерти не чует.
Часа полтора шли все эти приготовления, потом путник в очередной раз подошел к быку, слегка вроде толкнул и уронил его на пол. Отец бросился ноги держать, чтоб не дрыгался, а бык уже готов! И тут началась быстрая работа - обдирать, да так, чтобы капли крови не пролилось. Отца с ножом путник к туше не подпустил, заставил только помогать то поддержать, то шкуру скручивать мездрой внутрь, чтоб не остывала. Сам же лишь надрезы сделал, рукава засучил и стал обдирать кулаками - ладно бы с барана, а то с двухлетнего быка! Десяти минут не прошло, а дело уже сделано! Бык забит и шкура снята без капли пролитой крови!
Отец взял топор, чтоб разрубить тушу и повесить на мороз, но путник остановил и приказал погрузить ее в сани, вывезти на открытое место и отдать птицам, чтоб склевали, а кости весной в землю зарыть на горе, где не топит.
И чтобы кусочка от этого быка никто из людей не съел!
Меня он раздел догола и завернул в горячую шкуру с ногами и руками - будто спеленал, оставив лишь нос и рот, чтоб дышал, да глаза.
- Теперь спи! - распорядился путник и дал еще один кристалл соли.
- Я буду с тобой.
Уснул я почти мгновенно, испытывая во рту какой-то солнечный вкус и приятное, чуть жгучее тепло, будто лежал в жаркий летний день на речном разогретом песке. Я так хорошо запомнил эти ощущения, что потом очень долго искал, что существует в природе подобное. Съел много пудов обыкновенной соли, валялся на самых разных пляжах, но все не подходило. Была некая похожесть вкуса у молдавского красного вина, которое давят из винограда сорта Изабелла, а потом оставляют на солнце в открытом чане, чтоб забродило. Отдаленно напоминающее тепло я случайно почувствовал однажды, когда на Таймыре, в ожидании транспорта, чтоб уехать с буровой в камералку (мороз был за пятьдесят), я забрался в дизельную, согрелся и задремал под мощный, оглушающий рев.
***
...Проснулся утром, в полной тишине и первое, что мне захотелось, это потянуться, однако был скован высохшей до фанерной крепости шкурой. Дед не спал, сидел на кровати, подложив под спину свернутый тулуп и насвистывал "Черный ворон". Он всегда свистел, когда становилось лучше, несмотря на ворчание бабушки.
- Ну что, Серега, живем? - спросил дед.
- А где путник? - спросил я.
- Э-э, да поди уж под Зырянкой. Как ты уснул, он наказы дал и - дуй не стой.
- Хотел меня с собой взять.
- Тихо, молчок! - шепотом остановил дед. - Рот на крючок.
В этот момент вбежала матушка, за ней отец.
Снимали бычью шкуру точно так же, как путник снимал ее с быка, с той лишь разницей, что делали это не так умело. Я орал, будто это меня обдирали, причем без ножа: шкура присохла, прикипела или вовсе приросла, а родители радовались, должно быть, проинструктированные путником, они знали, что я ожил, если кричу, тело вновь обрело чувствительность, заработали мышцы, поскольку я от боли дрыгал ногами и отбивался. Дед подбадривал, мол, ничего, ори громче, помогает, и не выдержал, встал первый раз с постели за многие месяцы и начал помогать; бабушка, еще недавно подозревавшая случайного гостя во всех грехах, страстно молилась и каялась:
- Господи! Это Ты послал нам ангела своего! А я, слепая, не разглядела, не признала его, за лешака приняла. Прости меня, грешную!
Шкуру красного быка отец вынес на улицу, обложил березовыми дровами и сжег, как Иван-царевич лягушачью кожу...
Гой
Так с февраля 1957 года у нас начался новый отсчет времени - с того дня, когда к нам приходил путник. Вспоминая что-нибудь, шепотком, и только в кругу своей семьи, обычно уточняли' - Да это было на такой-то год, как Гой являлся.
Однако бабушка, обрадованная тем, что лекарь меня забирать не стал и даже денег за быка не спросил, называла его только ангелом Она вообще довольно часто и круто меняла свое отношение к людям и этого случайного прохожего стала боготворить В моем представлении на ангела он совсем не походил, скорее, на пожившего, дошлого и властного мужика, однако спорить с бабушкой было нельзя, по ее мнению, посланники божьи могут являться в любом образе, а люди слепы и не видят Промыслов Господних.
Я уже тогда понимал, что произошло нечто необыкновенное, вся наша семья прикоснулась к чуду, и теперь этот путник будто незримо живет в нашей избе, словно ангел бесплотный, и постепенно становится легендой На следующую весну, с начала страстной недели бабушка пошла пешком в город, чтоб помолиться, поблагодарить Бога за наше с дедом чудесное спасение и встретить Пасху в действующем храме. (Иногда она ездила молиться к месту сгоревшей церкви в Зырянском). Томск от нас находился так далеко, что уже было все равно, туда идти или в Палестину, на Сион-гору. Помню, ждали ее долго, пытались угадать, каких гостинцев принесет, откровенно скучали и даже дед все больше сидел у окна, выходящего на дорогу. Однако вернулась бабушка, чем-то так разочарованная и растерянная, что даже про гостинцы забыла и стала вручать их лишь на второй день. И только по прошествии двух лет от явления Гоя, тайком поведала моей второй, по матери, бабушке, как на исповеди рассказала историю с путником и излечением, за что батюшка ее сильно ругал, сказал, что она слепая, не разглядела сатану и силу его, допустив колдуна пользовать мужа и внука.
Дескать, лечить следует молитвами, постом да послушанием, но никак не бычьими шкурами, и теперь неизвестно, что с излеченными будет, примет ли наши души Господь у себя на небесах, а заодно, и ее душу? Греха этого ей священник не отпустил, велел привести нас с дедом в церковь: тогда, мол, отпущу и дам святое причастие В то время никто этого не знал, но дед что-то заподозрил, когда она сначала запретила вспоминать Гоя, дескать, бродяга этот и не ангел вовсе, а бесово отродье, чертово племя и лешак, а потом взялась за наше религиозное воспитание. Такое дело при Хрущеве было практически запрещенным, в наших краях "открытыми" богомольцами были только молдаване - иеговисты (кстати, запрещенная секта в то время), и если были верующие православные, то наверняка молились тайно, по пещерам, как первые христиане.
А дед мой иногда любил повторять, как уходил на первую мировую войну юным, но глубоко религиозным человеком, однако вернулся со второй мировой законченным атеистом - он говорил так, когда спор возникал с бабушкой. Потому он разок посмотрел, как она ставит нас с сестрой рядом с собой перед иконами, второй, а потом сказал строго:
- Ты свои грехи замаливай, а они еще не нажили. А то скоро как кержаки станем! И к твоему попу я не поеду, а сюда явится, так накостыляю еще!
Бабушка только губы поджала, но нас на колени больше не ставила и повторять молитвы не заставляла. Оказывается, она давно убеждала деда поехать к батюшке в храм и проговорилась, что ее лишили причастия, но за что, молчала, как партизан.
О Гое она теперь и слышать не могла, и когда о нем заводилась речь, или уходила, или сердито отворачивалась, и таким образом еще сильнее притягивала внимание к случайно зашедшему в дом человеку. Чаще всего о нем вспоминал отец, пытающийся с научной точки зрения объяснить природу лекарских способностей Гоя. Сначала он долго изучал влияние горячей бычьей шкуры на тело человека, и когда резал бычка, завернул свою левую, подвернутую на мотоцикле, ногу и пролежал так всю ночь - ничуть не помогло. Тогда он сделал вывод, что нужен-то обязательно красный бык, значит, благотворное действие оказывает масть. Отец очень много читал и знал разные непонятные слова.
- Все дело в ферменте! - заявил он. - Тебя вылечили ферментом.
На третий год он однажды прибежал с промысла в середине сезона, будто бы за продуктами, а на самом деле, скитаясь по охотничьим избушкам, наконец-то понял, в чем дело.
- Тять, Гой давал тебе соли? - стал пытать деда.
- Чего тебе? Давал, не давал... - неохотно заворчал тот. - Главное, на ноги поднял...
- А про что вы целых три часа говорили?
- Да ни про что. Так, брехали по-стариковски...
- Только ты мне не ври, тять! Ну скажи, про что? Может, он как-нибудь эдак тебя лечил?
- Ничем он не лечил! Ни так, ни эдак.
С той поры, как от нас ушел путник, у деда осталась лишь одышка да простреленная несгибаемая нога, все другие болячки зажили и даже будто бы изорванное медведем лицо стало разглаживаться. Раньше в свои пятьдесят семь лет он выглядел глубоким стариком, а тут вроде помолодел, повеселел, взбодрился и не то чтобы молчаливым сделался, а каким-то хитровато-скрытным, что-то не договаривал, ухмылялся, отшучивался и относительно Гоя никогда не высказывал своего мнения. Он снова начал бондарничать, ухаживать за пасекой, ездить на рыбалку и осенью стрелять белок в лесу за поскотиной.
Каждый раз, как только ему становилось лучше, дед собирал инструмент в специальный ящик, укладывал котомку и просил отца отвезти его в Зырянское, откуда он уже самостоятельно добирался до железной дороги в Асино. Несмотря на тихий протест домашних и особенно бабушки, он уезжал на четыре-пять месяцев в даль неведомую, на свою родную Вятку-реку, где занимался отхожим бондарным промыслом. После войны и таких ранений его пытались каждый раз остановить, но строптивый дед бил кулаком по верстаку.
- Молчок!
И уезжал, даже ни с кем не простившись. Возвращался он по-всякому, но всегда больной, едва живой, и его начинали выхаживать всей семьей. Говорили, раза три, еще до войны, он зарабатывал большие деньги, но чаще только себе на прокорм и обратную дорогу. Тогда дед был молчалив и стойко выносил все упреки. Помню, расстроенная бабушка выговаривала ему:
- Небость, два года тому хоть семьсот рублей привез, а ныне и на гостинцы не заробил. Что ж там, на Вятке, кадушки никому не нужны? А может, прогулял, денежки-то, лешак? Иль с бабенкой какой схлестнулся?
-
И вот теперь она ждала, что дед начнет собирать инструменты и поедет на отхожий промысел, но он глядел на бабушку, ухмылялся, насвистывал "Черного ворона" и выстругивал нам с сестрой живые игрушки - пильщика с пилой, мужика-кузнеца с медведем-молотобойцем, карусели, пожарных с насосом и прочие забавные штучки. На приставания отца обычно махал рукой или весело сердился.
- Так вот, тять, он тебя солью вылечил! - заявил отец. - И шкура с ферментом тут ни при чем! Он дал тебе какой-то особой соли. А может и не соли, а другого вещества.
-
- Не знаю. - ухмыльнулся дед. - Помогло, и ладно...
А батя не мог успокоиться и стал выпытывать у меня.
- Ты помнишь, какого вкуса была соль, которую Гой давал?
- Помню, - признался я.
- Ну и какого?
- Соленого.
-
- Нет, ты погоди. Соль ведь тоже бывает разная. Поваренную мы едим, каменную коровы лижут, лоси. Есть еще морская - или в войну мы из болотных кочек вымачивали.
- Она вся одинаковая.
- Но ведь которая у Гоя была, помогла тебе? А эту ешь, ешь, и ничего.
- Мне шкура помогла. Отец лишь головой покачал.
- Эх вы... Ничего не понимаете.
- А почему он меня с собой не взял? - тогда спросил я. - Сказал же, если вылечит - возьмет.
- Кто б ему отдал? - горделиво начал батя и тут же смял разговор.
Я не могу сказать, что это была тоска по нашему Гою; скорее, неосознанное детское желание, преодолевая некий страх, хоть тайком посмотреть на него. Однажды на рыбалке, когда дед вытащил на удочку крупного налима и был в веселом расположении духа, я осмелился и спросил у него, где живет Гой.
- А пойдем поищем! - вдруг предложил он. - Завтра рано поутру и отправимся.
Летом я спал на повети старой избы, после отбоя оказывался бесконтрольным, вольным и ходил ночью, куда хотел. Чаще всего убегал на реку посмотреть, как плещется рыба, или пробирался по темному лесу, чтоб найти таинственное дерево, на котором трещит козодой, а то до рассвета гонял коростелей по заливным лугам, и потом отсыпался чуть ли не до обеда. В этот раз я до утра прождал деда, ходил под окно горницы слушать, проснулся ли он, и когда упала роса, сам неожиданно задремал на завалинке. Дед растолкал меня уже на восходе, и мы пошли в сторону заброшенного смолзавода, но не по дороге, а лесом, по гребню увала. К тому времени окрестности деревни я знал до последней кочки в болоте, облазил самые затаенные уголки.
ДО ТУК ЧЕТОХ – ЗА ГОЯ
Существовало лишь одно место, куда я с некоторых пор боялся даже приблизиться - Змеиная Горка на этом самом смолзаводе: с виду ничем не примечательный, поросший лесом холм, каких было достаточно в округе. Правда, здесь всюду торчали из земли окаменевшие глыбы из песка, угля и смолы, какие-то деревянные круги, конструкции... Не очень-то удобное место для игр, зато тут быстрее всего сходил снег, образовывалась сухая проталина, где рано проклевывалась густая трава и подснежники, и вообще было тепло, радостно и беззаботно. Мы с сестрой ходили сюда собирать цветы, пить особенно сладкий березовый сок через соломинку, сковырнув ножиком бересту, или просто играть.
Родители никогда за нас не опасались, благо, что сквозь редкий молодой лес видно было деревню. А вообще здесь когда-то стоял древний сосновый бор, выпиленный в начале тридцатых сибулонцами, а пни потом выкорчевали с помощью взрывчатки и перегнали на смолу. Однако поблизости от завода, по увалу, в то время еще стояло несколько гигантских пней, на которых мы спали, как на кроватях, пригревшись на солнышке.
Наверное, года в три, весной, я первый раз забрел сюда в одиночку и когда оказался на самой горке, остолбенел, объятый ужасом: вокруг кишело сотни полторы самых разных змей, от блестящих черных гадюк до маленьких могильных, словно отлитых из меди. Они постоянно двигались, сплетались, как веревки, обвивались вокруг тонких деревьев, свисали с веток, переползали друг через друга и через мои сапожки, и будто бы заняты были только собой.
Наша деревенька стояла в известном на всю округу змеином месте.
Когда семья в пятидесятом году решила сюда переехать из большой, по тем временам, деревни Митюшкино, бабушка знала об этой напасти и встала против. Однако дед всю жизнь стремился к воле, ни за что не хотел вступать в колхоз и отца моего не пускал (а вступать заставляли, мол, коли живешь на территории колхоза, то и работай здесь), как глава семьи, он сказал свое слово, погрузился в две лодки и приплыл к алейскому змеиному берегу. Я уже много раз видел гадюк даже в собственном дворе, и нас с сестрой учили не бояться их, а бить тонким, гибким прутом и показывали, как это делается. В раннем, как и положено, босоногом детстве у нас было две опасности - проржавевшие и оттого острейшие барашки от колючей проволоки, все лето будто вырастающие из земли, поскольку на месте деревни в начале тридцатых стоял лагерь, и змеи, заползающие в самые неожиданные места. С первой бедой боролись просто - прометали двор раза три в лето и ссыпали в заброшенный колодец с полведра колючек, а со второй было труднее, потому как гадюки оказывались даже в подполе и коровьих яслях и мы их колотили десятками, к тому же, бабушка все время твердила, что за каждую убитую змею отпускается сорок грехов.
И удивительное дело, если за лето каждый из пятерых детей в нашей семье колол пятки раза два-три, то змеи за шестнадцать лет жизни в деревне ни разу никого не жалили. Да и в других окрестных поселках не слышно было, чтоб кто-то пострадал от них. То есть какого-то особенного страха перед укусом, болью или даже смертью от змеиного яда я не ощущал и, стоя среди шевелящегося полчища, больше испытывал отвращение, цепенел от мерзости и страстно хотел приподняться хотя бы на вершок и пролететь над кишащей землей, потому что наступить некуда!
Однако при всем этом было чувство, а точнее, абсолютная уверенность, что со мной ничего не случится .
Не помню, сколько я простоял так на Змеиной Горке (до этого случая никто не задумывался, почему так называется этот холм, змей там видели, но столько же, как и везде), не знаю, как перешел через змеиный поток, может, и в самом деле по воздуху, но пришел в себя лишь у поскотины, целый и невредимый. И почему-то закричал радостно:
- Мама, мама! А меня змея укусила!
Отец вывозил навоз на огород, потому прибежал с вилами, за ним матушка, раздели догола, осмотрели, ничего не нашли и передали в руки бабушки. Та отстегала меня прутом, приготовленным для змей, отвела под присмотр болеющего деда и побежала догонять моих родителей, ушедших в сторону смолзавода.
- Будет реветь-то, - успокоил меня дед. - Не укусила и ладно. Я вот как встану, на рыбалку поедем, щук наловим и ухи сварим на берегу.
Из щучьих голов уха вкусная, наваристая, ешь, пока пузо не треснет.
О том, чем закончился карательный поход на Змеиную Горку, я узнал только лет через пятнадцать, на проводах в армию, а тогда почему-то никто и словом не обмолвился при детях, как будто ничего не случилось.
Возможно, пугать не хотели, а возможно, сами испугались, вспоминать было мерзко, поскольку перебили, сожгли на костре и растащили по муравьиным кучам больше сотни гадюк и еще много уползло. Однажды слышал только, как дед ругался, мол, без толку все это, новые придут и еще отомстят, не вывести с этого места гадов. На проводинах же подвыпивший батя вспоминал мои детские "подвиги", и этот вспомнил, рассказал красочно, кое-что присочинил и все потом спрашивал у бывалых мужиков:
- Кто знает, почему они сползаются на эту горку раз в сто лет?
Кто разгадает загадку природы?... А, то-то! Никто не знает, и никогда не узнает, потому что это для нас необъяснимое явление. Вот мой тятя знал, почему, только не сказал...
Змей после этой расправы заметно поубавилось, по крайней мере, они реже стали появляться возле человеческого жилья, однако на следующий год их поголовье восстановилось и мои братья-двойняшки, еще только приступающие к познанию мира, нашли гадюку прямо у бани. Тянули к ней пальчики, намереваясь потрогать, говорили со знанием дела:
- Велевоцька, велевоцька...
И вот когда мы отправились с дедом искать Гоя, почему-то пришли на совершенно пустую Змеиную Горку и тут остановились. Дед так утомился, что присел на окаменевшую глыбу смолы и долго отпыхивался, прежде чем сказать что-либо.
- Отсюда надо к Гою идти, - вымолвил наконец. - Тут он ходит, дорога здесь у него.
- Так пойдем, пойдем, дед! - потянул его за руку.
- А в какую сторону, знаешь?
- Нет...
- Вот и я точно не знаю. То чудится, сюда надо... - дед махнул рукой в сторону болота под увалом. - То сюда... Хреновый из меня ходок, Серега, видишь, ноги не ходят.
- У меня ходят! Я могу и один!
- Да ведь еще и дорогу знать надо! - он грустно и задумчиво озирался по сторонам, будто хотел засвистеть "Черного ворона". - Уйдешь куда глаза глядят и не вернешься. Да и рано тебе, вот когда вырастешь, тогда и пойдешь один. Давай лучше посидим и подождем. Гой мимо Змеиной Горки никак не пройдет. Он здесь частенько ночевать останавливается, во-он на том пне спит, - и покапал огромный и широкий пень, на котором и я не один раз спал. - А раньше, бывало, даже зимовал тут. Это когда еще сибулонцы бор не свалили. У него меж трех сосен изба висела, под самыми вершинами - высоко-о...
- Избы не висят, а стоят! - поправил я.
- У гоев бывают и висячие, любят высоко жить. Ну, ладно, давай ждать. Только тихо сиди, не шевелись и не болтай. Слушай вон, как птички поют.
Я сидел тихо и слушал, пожалуй, целый час, насколько терпения хватило, бурундуки мимо пробегали, где-то :"а горкой змея проползла под увал, но Гой так и не появился. Зато пришла бабушка и позвала завтракать. Мы возвращались домой не лесом, а дорогой, дед отчего-то повеселел, хромал бойчее, смотрел на меня ободряюще, и я не чувствовал себя обманутым.
- Ничего, Серега, не тушуйся! - подбавил уверенности он. - Сегодня Гой не прошел - завтра пройдет, или послезавтра. Не летом, так зимой. У него здесь тропа, так что все равно скараулить можно.
На Змеиную Горку я ходил весь остаток лета, осень и даже зимой на лыжах, каждый раз преодолевая знобящий страх, но Гоя не увидел ни разу, и следов его не видел ни на земле в слякоть, ни на снегу. Однако еще всю весну упорно и каждый день прибегал сюда, с оглядкой и спертым дыханием забирался наверх, сидел на глыбе, чтоб змеи не достали, и ждал. Однажды вместо Гоя ко мне приковылял дед, как потом выяснилось, по требованию бабушки.
- Ну что, не идет Гой? - весело спросил он. Я верил деду искренне и бесконечно, как можно верить только в детстве.
- Нету почему-то, - сокрушенно признался я. - Видно, в другом месте теперь ходит.
- Пожалуй, так оно и есть. Пошли домой.
- А где теперь Гой ночует?
- Далеко отсюда, аж на Божьем озере, - серьезно сказал дед. - Место там глухое, дикое и бор стоит. Видел, там остров плавучий есть?
- Видел!
- На этом острове раньше он жил. А тут что теперь, людно стало.
Лес свалили, деревню видать, и дорогу рядом наездили. Он не любит ходить, где рядом чужие дороги.
Не поверить ему было невозможно! Этот путник мог вполне жить возле Божьего, потому что оно было самым таинственным местом в детстве, да и потом осталось таким же. А где же еще жить Гою, которого бабушка ангелом называла? Божье озеро принадлежит богу, а значит, там живут ангелы, серафимы и херувимы, хотя бабушка уверяла, что все они жители небесные и на землю спускаются редко.
Место там было глухое, - ни дороги, ни тропинки, - и добираться туда тяжело: сначала надо переправиться через Четь, потом идти через темный осинник, через симоновские луга и болото с кочкарником в человеческий рост. Да еще надо не промахнуться, попасть на узкую еловую гриву, которая и приведет к берегу Божьего. В самом озере вода была медного цвета, рассказывали, что оно бездонное и водятся там огромные замшелые щуки. Одноногого мужика из Торбы такая щука утопила вместе с плотом, когда попала на жерлицу. До топора дотянуться он не смог, чтоб шнур перерубить и утонул. А плот, говорят, еще несколько дней водило по озеру.
Не знаю, водятся ли в Божьем замшелые щуки, но замшелый лес там был и стоял он за плавучим берегом на у горе, - древние, огромные сосны поросли мхом до самых крон, а гигантские корни вылезли из земли.
Прошлым летом матушка пошла на Божье за голубикой и взяла меня. Мы переплыли через озеро на плоту и оказались на зыбуне, где и росла ягода. Земля под ногами плавала на воде, было интересно и здорово качаться на ней, как на кровати с панцирной сеткой. Однако больше всего притягивал этот могучий бор, поскольку я никогда еще не видел близко таких огромных деревьев. Матушка меня одного далеко не отпускала, боялась, пойду к берегу и провалюсь в окно. А там, говорят, дна не достанешь, когда мужики одноногого искали, двое вожжей связывали - не хватило.
Мы набрали три ведра голубики очень быстро, от ягоды там болото казалось синим, и матушка согласилась сходить в лес просто так, без всякого дела. Поднялись на угор и немного походили по краю бора, я все время запинался и падал, поскольку смотрел не под ноги, а вглубь таинственного места.
Вокруг нашей деревни было много леса - смешанного, березового или вообще чистого бора, но меня с тех пор тянуло в этот, потому что он стоял на самом краю света: дальше озера я никогда не был, а значит, и мир заканчивался там же.
Должно быть, мои вопросы о Гое всем надоели, даже матушка стала отмахиваться, мол, что ты заладил? Лучше возьми букварь и читай, скоро в школу идти. Дед бы, конечно, пошел со мной, однако на своей прямой и высохшей ноге он дальше берега или смолзавода не ходил, а древний, могучий лес на Божьем по тогдашним понятиям был далеко, километра два, не меньше. Вот и решил сам пойти и поискать, где живет путник.
В свой первый самостоятельный поход я отправился рано утром, еще до завтрака, когда родители ушли на заломские покосы. Взял деревянное ружье, настоящий нож, спички и соль - как отец, отправляясь на промысел, - и пошел напрямик, через картошку и прясло, чтоб из окна не заметили. Речку переплыл на обласе, спрятал его в кустах и смело шагнул в мрачный осинник.
Искали меня почти трое суток по всем лесам, во всех направлениях, в первую очередь, конечно, на Божьем, а так же в реке и других озерах.
Дед считал себя виноватым, порывался идти искать и так сильно переживал, что в первый раз после явления Гоя сильно заболел и слег.
Из Торбы дядя Саша привез целую машину лесорубов, которые прочесывали осинник на той стороне, симоновские луга, кочкастое болото и плавающую землю вокруг Божьего, кричали, стреляли, а ночью, чтоб не жечь патроны, били кувалдой по подвешенному еловому бревну - гудело, как колокол. Все думали, услышу и выйду на шум, но я ничего не слышал, хотя все время находился в бору возле озера, который лесорубы прошли вдоль и поперек.
А я утром пришел к озеру, переплыл на плоту и вошел в этот древний лес. Висячее жилище путника я искал, может, час или полтора, обошел весь бор и вернулся назад той же дорогой, потому что хотел поспеть к завтраку, иначе бабушка хватится.
Потом меня спрашивали, как и где ночевал, и я не мог доказать, что ночей не было, поскольку я отсутствовал всего четыре - пять часов.
Солнце не заходило и не всходило, звезд на небе я не видел, спать не ложился, потому что нещадно жрали комары, и костра не разводил. Один раз только воды ладошкой попил из мочажины, и я не удержался - забрался на плавучий остров и ягоды княженики поел.
Пожалуй, мое искреннее упрямство спасло тогда от порки. Домашние посоветовались и решили не наказывать, но обозвали меня хитрым, изворотливым и упертым, запретили выходить за поскотину и отправили полоть картошку. Я ждал, что дед заступится, но он сильно болел и на семейный суд подняться не мог, разве что потом подманил меня и щелкнул в лоб своим костяным пальцем так, что слезы брызнули. Через несколько дней он кое-как встал, расходился и к вечеру, открыв окно, облокотился на подоконник и стал насвистывать своего "Черного ворона". А через неделю сел в свой облас и поехал на рыбалку, но меня не взял, и вообще перестал со мной разговаривать. И только осенью, когда я месяц уже отучился в школе и все немного забылось, неожиданно позвал с собой лучить щук и налимов по пескам.
- Ты где был-то, лешак? - спросил с застарелой обидой, но и с желанием помириться.
- На Божьем был, - признался я. - В старом бору.
- А не врешь?
- Нет, правда!
- Заблудился, что ли?
- Да нет...
- Где ж тебя носило?
- Нигде не носило, пришел, поискал Гоя и тут же домой ушел.
Дед острогу поперек лодки положил, сел и уставился в огонь на носу лодки.
- И что, нет там Гоя? - через несколько минут спросил он.
- Не нашел.
- Ну и ладно, давай рыбачить!
Спустя несколько лет, когда отец меня натаскивал ходить по тайге и учил промыслу, дед частенько посмеивался, мол, ну-ка, расскажи, как ты в трех соснах на Божьем заблудился? И если я опять начинал доказывать, что в лесу не плутал, не ночевал, то он сердился, называл меня вруном и упертым.
С той поры минуло лет тридцать, и вот однажды приехав к отцу, я застал его выпившим, но не с гармошкой в руках, а растерянным и задумчивым, чего раньше не бывало. Он только что вернулся с рыбалки (жил он тогда в райцентре), наварил ухи из щучьих голов и сидел за столом в гордом одиночестве. Сразу ничего не сказал, но за полночь, когда наконец взял в руки гармошку, его прорвало. Отставил инструмент, побегал, стуча босыми пятками по полу, и снова завернул самокрутку.
- Слушай, Серега, не знаю, что творится! - заговорил полушепотом.
- Вчера приехал на Алейку, пошел на Божье, думаю, сети поставлю, щучья наловлю на приваду. Ну, воткнул шесть штук, вылез на берег, посидел, покурил. Гляжу, поплавки заходили, рыба пошла, и знаешь, к вечеру полтора десятка вот таких!... А уж темнеет, я - назад. Прихожу в избушку, а печь холодная. Я ведь протопил ее и пошел, чтоб ночевать в тепле. Тут как лед. Да и молоко в банке прокисло... Жутко стало, сети в озере так и оставил, схватился и домой. Приезжаю - семнадцатое число.
Уезжал-то я четырнадцатого, на одну ночь! Не знаю, что и думать. Где был три дня? С женой поругался. Пьянствовал, говорит, вот и не помнишь, где. Я ей рыбу показываю: ну ладно, щуки быстро дохнут, а караси-то свежие, еще хвостами бьют!... Если б напился да память потерял, пролежал где-то, они б точно сдохли. Нет, опять к матери убежала...
После смерти моей матушки он женился трижды, но никто на свете уже не мог заменить ее, любимую и единственную. Все жены ревновали отца к ней, потому что во сне он звал ее по имени...
- Ты-то хоть мне веришь?
- Верю! - сдерживая внутренний трепет, сказал я. - Мне дед говорил, там Гой ночует.
Про Гоя отец пропустил мимо ушей.
- Тогда сходи к ней, скажи, что так бывает.
Я сходил, объяснил, как мог и привел отцову жену домой. Отношения вроде бы наладились, однако на утро батя невесело толкался по углам или задумчиво курил на крылечке.
- Надо ведь ехать да сети снимать, - признался он. - Сгниют - и рыба пропадет... А боюсь!
Мне показалось, он опасается снова рассориться с женой. Отец будто угадал мои мысли.
- Да ты не думай, не ее боюсь! - засмеялся он настороженно. - Пойду к Божьему, а вдруг опять?... С другой стороны, проверить охота, испытать, что там творится?!
В следующий раз я приехал через несколько месяцев, отец уже не вспоминал этот случай, так что пришлось спросить самому, чем закончилась проверка.
- А ничем! - удивленно проговорил он. - Сходил, сети снял и ничего. Когда ушел, тогда и пришел. Главное, про это думать не надо.
***
На четвертый год после явления Гоя, в субботний банный день, в самом начале вольного лета, когда река уже высветлилась, вошла в свои берега, и под таловыми кустами за поворотом начали брать язи, мы поплыли с дедом на рыбалку. Клевало неважно - плоские, с мою ладошку, чебаки, окуньки, а потом и вовсе пошел ерш, ни один подъязок червя не трогал. Обычно, дед или сматывал удочки, или переезжал на новое место, пока не находил рыбы. Тут же сидел благостный, умиротворенный и даже ни разу не матюгнулся, хотя мелочь объедала наживку каждые три минуты.
- Ну что, Серега, мне пора! - сказал он где-то часа в три. - Сиди, не сиди, а надо, срок пришел. Одиннадцатое число сегодня.
Мы приплыли к нашей пристани, я собрал улов и побежал домой, а дед остался в лодке, мол, еще часик посижу, пока баня не вытопилась.
Потом я бегал за ним еще дважды: первый раз он и разговаривать не стал, сидел в лодке почему-то лицом к корме, лишь обернулся и глянул через плечо, когда я крикнул с берега, что батя в баню зовет.
Во второй раз меня послала матушка, сказала, уже белье собрано, покличь деда. А надо сказать, баню он любил, уходил туда часов на пять, как на работу, и если на всю деревню разносился веселый разудалый мат, значит, мой дед парится. Но после ранения дышать в парной ему тяжело стало, говорят, переживал сильно, пока не вырубил специальное окно, чтоб лежать в бане на полке, а голова на улице.
Обычно его батя двумя вениками охаживал, а дед кричал:
- Серега, ну-ка тащи мне воды!
Я приносил воды и поил дедову говорящую голову, в ковше лед брякал...
Сейчас дед сидел в корме лодки и пытался оттолкнуться от берега, однако было глубоко и весло не доставало дна. Я удивился и засмеялся - лодка была привязана!
- Оттолкни-ка, меня, Серега! - он тоже развеселился.
- А ты куда, дед? - испугался я.
- Да пора мне!
- Матушка сказала, в баню надо...
- Некогда здесь, там уж попарюсь. Там, Серега, бани тоже есть, только у самой реки ставят и по-белому топят.
Я почувствовал неладное, испугался еще сильнее и чуть не заплакал.
- Дед, пойдем домой, ну, пойдем...
- Какой же из меня ходок? - он засмеялся. - Теперь ты ходи, а я домой поплыву! Плавать хорошо: сиди греби, да на берега смотри - красота!
- Так дом у нас там...
- Нет, Серега, мой дом теперь в другом месте.
Дед еще раз хотел оттолкнуться, но дна не достал и чуть не опрокинулся. Подобной оплошности он никогда не допускал, однако еще больше развеселился, к тому же, колышек, за который была привязана долбленка, вырвался и потащился по берегу.
- Дед, ты куда? - лодку сносило, я пытался схватить веревку, но в руках оказывался песок.
- В рай поплыву! - засмеялся он и стал грести.
К тому времени я уже закончил первый класс и отлично знал, что рая нет, хотя дед был уверен и всегда говорил, что непременно попадет именно туда. Даже если не будет молиться, как бабушка.
Я наконец поймал веревку с колышком, однако удержать долбленку не мог и упираясь, потащился следом.
- Нам сказали, рая нету и ада нету...
- Как это нету? Кто сказал?
- В школе говорили...
- Врут! А куда мы денемся после смерти? Ада нет, это точно. Ад на земле, потому живем и мучаемся. А когда люди помирают, то все сразу попадают в рай, и грешные, и безгрешные. Ты никому не верь, Серега. По секрету скажу, бывал я у самых ворот и туда заглядывал. Рай, он не такой, как в Библии пишут. Природа, как у нас, тоже река течет, Ура называется. Меня туда одна женщина водила...
Он причалил долбленку бортом к берегу, воткнул весло в песок и стал рассказывать. Я слушал его со страхом и восторгом. И до сих пор, если эти два чувства испытываю одновременно, у меня всегда текут непроизвольные слезы и срывается дыхание. Это было не увлечение рассказом - потрясение, так что я даже не заметил, как на берег пришел отец и не знаю, что он слышал, однако был испуган и неожиданно вмешался, стал чуть ли не насильно вытаскивать деда из лодки и уговаривать идти домой. Дед сначала отмахивался, сердился, а потом вдруг подчинился и вылез на берег. Отец взял его под руку, хотя нужды в том не было, вывел на кручу и повлек к дому. Навстречу вылетела бабушка и до моих ушей долетела оброненная батей фраза:
- Неладно с ним, заговаривается ...
Потом это слово повторяли много раз, и все домашние были уверены, будто дед перегрелся в жару, получил солнечный удар и от того начал заговариваться, ибо то, что он поведал мне, - а отец, видимо, случайно подслушал, - не укладывалось в бытовую логику. Они еще не знали, что дед через несколько часов умрет - об этом он сказал только мне. Его пытались всячески успокоить, уложить в постель, и бабушка даже рюмку ему предлагала выпить. А дед и без рюмки словно пьяный был, смеялся, ни на что не соглашался и требовал, чтоб пустили в баню. Дескать, раз не дали мне сразу в рай поплыть да там попариться, попарьте здесь.
- Трофим, собирайся, пошли! - он порывался встать с лавки, но ему не давали. - Баня же остывает, ты что? Да и время у меня мало, некогда! Белье возьми новое, чтоб не переодевать потом, а гимнастерку старую, в которой я с фронта пришел. А то в другой одеже не узнают и не пустят. Идем, попарь в последний раз!
Все это он говорил весело и даже радостно, а в доме был полный переполох. Отец сдался и повел его в баню, но меня на сей раз не взяли, хотя мы года два уже ходили на первый пар втроем. Однако, будто зачарованный, я не мог оторваться от деда, поплелся за ним и остался сидеть в предбаннике. Скоро прибежала матушка и потащила меня домой.
- Дед сегодня умрет! - сообщил я и заплакал.
- Ты что говоришь? Типун тебе на язык! - насторожилась она. - У дедушки солнечный удар . Он отдохнет и все пройдет.
- Нет, он сегодня в рай поплывет, на реку Ура. Ему Гой сказал. Он смерти попросил, мучиться надоело, но Гой сказал, одиннадцатого умрешь, в субботу после бани, а пока живи.
- А кто это - Гой?
- Это такой человек. Помнишь, приходил лечить? В шкуру заворачивал?
Должно быть, мать ничего не поняла, испугалась, что я тоже перегрелся и заговариваюсь, отвела на поветь в старую избу и затолкала в постель, после чего принесла кружку с молоком и хлеб, заставила съесть все при ней и спать. Я плакал молча, молча же выпил солоноватое от слез молоко и забился под одеяло, хотя было рано, еще коростель на лугу не запел и солнце не совсем село.
Обиднее всего было, дед умрет и в рай уйдет без меня.
Он никогда не рассказывал про войну, и если у нас в доме собирались фронтовики и начинались воспоминания, дед ухмылялся, помалкивал и выглядел совсем не героически, особенно когда надевал пиджак с двумя медалями - "За Победу" и "За оборону Заполярья" - все, что заслужил на трех войнах.
Спустя много лет, по скудным свидетельствам бабушки и отца, я схематично восстановил события, произошедшие с дедом в первых двух войнах: на Первую мировую он пошел добровольцем, в пятнадцатом году, приписав себе возраст и, провоевав год, заболел тифом. Его вытащили из вагона-лазарета и бросили на какой-то станции, предположительно, в Смоленской области - так поступали с умирающими, поскольку в поезде не хватало мест для раненых, которых еще можно было спасти.
Умерших тифозных с военных эшелонов хоронили какие-то местные службы, но дед еще дышал и потому его оставили на перроне до ночи.
А ночью на станцию пришла женщина и каким-то образом подняла и увела (или унесла) деда к себе в дом. Там за месяц выходила, немного откормила и отпустила домой.
В Гражданскую его мобилизовали в белую армию, где он прослужил очень долго - аж два с половиной года - вроде бы каптером в пакгаузах, где хранилась конская сбруя (седла местным мужикам продавал за самогонку). Но почему-то участвовал в боевых действиях партизанского характера, совершал какие-то длительные конные переходы по лесам и горам и даже получил пулевое ранение в предплечье. Одно время я подозревал, что дед был в неком карательном отряде и однажды высказал предположение отцу. Тот что-то знал, но всего выдавать не хотел и мои доводы отмел напрочь: дед в карателях не был! Но как-то раз проговорился, что дед чуть не уплыл с интервентами из Архангельска в Англию. Уже и на пароход сел и какое-то имущество затащил, но все бросил и в последний момент сошел на берег. Мол, жил бы сейчас где-нибудь в Лондоне и в ус не дул.
В общем, это был самый темный период в его жизни, и я долго думал, что скрытность его относительно службы у белых продиктована опаской: могли ведь арестовать, посадить, а то и вовсе расстрелять.
Судя по отрывочным рассказам бабушки, он дезертировал из белой армии, когда она развалилась, и прибежал прятаться в родную деревню, но не домой, а к своей невесте, то есть к моей бабушке. Как раз в субботу, в бане еще было жарко и его ночью отправили мыться - сильно завшивел. А бабушкин брат Сергей (в честь которого назвали меня), в это время был красным партизаном и пришел из леса, тоже в баню. И прихватив там белого дезертира-деда, поставил расстреливать к дубу, стоящему в палисаднике. Бабушка упала брату в ноги, вымолила жизнь жениха, но Сергей увел деда к партизанам, где он несколько месяцев таскал на себе станину станкового пулемета, пока красные не победили. И таким образом как бы искупил вину.
На Вторую мировую его взяли в сорок втором, на Се-верный фронт, а через два года позиционной войны, (дед таскал на себе минометную плиту), где-то в сопках он со своим расчетом попал в засаду под пулеметный огонь, получил ранения в грудь и ногу, и пролежал в лесу четверо суток, ожидая смерти. (С тех пор он любил и насвистывал песню "Черный ворон".) Но почему-то не истек кровью, хотя даже перевязать себя не мог, и не умер, когда его товарищ, тоже тяжело раненный, погиб. Еще троих убило сразу.
И вот на пятые сутки, ночью на сопку послали солдат, чтоб вынести миномет (не убитых, возможно, потому на севере их кости до сих пор лежат не похороненными), а они нашли деда живым и притащили вместе с оружием. После госпиталя в Архангельске (опять в Архангельске!), отправили домой умирать - привезли на подводе едва живого.
Это все, что было известно из скупых, случайных рассказов самого деда и старика Кафтанова, который воевал имеете с ним и тоже был немногословным.
В тот субботний день одиннадцатого июня, когда дед получил солнечный удар и стал будто бы заговариваться, на самом деле рассказал мне то, о чем все время молчал, ибо знал, что сразу же определят какую-нибудь душевную болезнь или в лучшем случае скажут, перегрелся. И уши выбрал для откровения мои, наверное знал, что никто другой не поверит.
Так вот, после того, как минометный расчет попал в засаду и был расстрелян, на сопку взошла женщина в чудной, непривычной одежде - ярко синем плаще, наброшенном на плечи, причем, очень длинном, так что полы волочились по мхам. Она будто плыла, поскольку не видно было, как переступает ногами. Сначала дед подумал, пришла какая-то местная, из племени саами - они иногда появлялись на передовой, маленькие, невзрачные люди в пестрой одежде и в любое время года в теплых разукрашенных головных уборах. Однако когда она приблизилась, дед увидел, что эта женщина высокая, статная, без платка и волосы длинные и желтые, а не рыжие, как у местных, и на лицо русская. Сначала ему показалось, женщина ищет раненных, потому что останавливалась у трупов, и долго всматривалась, вероятно, определяла, жив или нет, а потом зачем-то набрасывала полу плаща на лицо. Потом подумал, это ходит сама Смерть и окликнул, мол, иди сюда, они все мертвые, а я еще живой, грудь печет, мучаюсь, помоги. Она услышала, однако подошла не сразу, прежде возле убитых постояла и вроде бы даже молча поплакала. А когда наконец приблизилась и присела на камень в изголовье, дед увидел, что она не призрак, а совершенно реальный человек, разглядел даже легкие морщинки у ее глаз, невысохшие слезы на щеках и мох, приставший к полам плаща.
- Ты Смерть? - все-таки спросил.
- Нет, я жизнь после смерти, - сказала она.
У деда в военном билете в графе "образование" было написано "негр", что означало неграмотный. В вопросах философии он был не силен, вычурных словосочетаний не понимал и потому сердился, требовал, чтоб говорили по-русски и толково. Тогда он добивал третью войну и твердо знал, что никакой жизни после смерти не бывает: на его глазах медленно или мгновенно погибли сотни человек, и ни одна душа не вылетела из тела, чтоб обрести другую жизнь, в раю или аду. Дед допускал, что она, душа, в человеке существует, но бесплотная, а бесплотной, пусть даже вечной жизни, он не хотел ни в каком виде. Ну что толку? Ни жену обнять, ни с удочкой посидеть на бережку, ни кадушку смастерить, ни даже в баньке попариться. Будешь ходить, как тень да живых людей пугать.
Потому сказал этой женщине определенно:
- Ты знаешь, я после смерти жить не хочу. Мне бы уж к одному концу - или туда, или сюда.
Она сорвала мох с камня, на котором сидела, вытерла кровь с груди и ноги и мхом же раны заткнула.
- Ну так вставай, пойдем со мной. Да в землю смотри, глаз не поднимай.
Дед вспомнил, как его, тифозного, подобрала женщина на станции, когда бросили умирать, решил, что опять повезло. К своему удивлению, поднялся на ноги и пошел. Идут, а женщина время от времени спрашивает:
- Ты жив еще, воин?
- Вроде, живой, - говорит дед, а сам не знает: состояние какое-то непривычное, раны горят, а наступать на ногу и дышать вроде и не больно.
- Ладно, - говорит, - идем дальше. Но не забывай, гляди под ноги и обратную дорогу не запоминай.
Сколько и в каком направлении они шли, он не помнил, видел лишь, что под ногами то мшистые болота с клюквой, то камни в голубых лишайниках, то брусничник со спелой кровяной ягодой - от земли, сказано, глаз не поднимать. Наконец, остановились у какого-то ручья, женщина в последний раз спрашивает, жив ли он.
- А вроде ни живой, ни мертвый. - Дед осмотрелся по сторонам - кругом сопки, лес и никакого жилья. - Ты скажи, куда завела?
- К истоку реки Ура, - сказала она. - Отсюда начинается путь в небесное воинство. Видишь, стоим у самых ворот? А поскольку ты до сих пор не умер, то дальше тебе дороги нет.
Дед понял, что стоит у ворот рая, однако в его представлении он должен был быть чисто библейским, с садами и всякими диковинными растениями, как на юге, а тут сосны, елки, камни да мох. И холодно, потому что октябрь месяц, а он без шинели, в одной гимнастерке, и то рваной и окровавленной. Да и ворот никаких не видать, разве что над речкой прошлогодним снегом тонких березок нагнуло до земли, и стоят они, как арки.
Хотел, говорит, попить из ручья, а женщина не дала, мол, живым из этой реки пить нельзя.
- Ну а войти погреться-то можно? - спросил дед. - Там тепло?
- Тепло там лишь мертвым, - с сожалением сказала женщина.
- Пускай хоть одежу какую дадут. Кровь потерял, мерзну.
- Так нет там никакой одежды...
- Чего же привела сюда?
- Пожалела, - говорит. - Думала, умрешь по дороге, а ты жив остался. Сердце у тебя крепкое.
- И что мне теперь делать?
- А придется в ад возвращаться и жить. Как срок настанет, придешь сюда, к истоку, на это самое место. Спросят, как нашел, скажешь, Карна дорогу показала.
- Так ты не велела дороги запоминать! Как же найду?
- Когда время наступит, найдешь. А не велела запоминать, чтоб раньше срока не явился.
Он и спросил, когда будет срок, но Карна говорит, не скажу, а то ждать начнешь и жизни никакой не будет. Ступай, мол, назад, где лежал, и жди, за тобой придут и в госпиталь отправят.
Дед развернулся и пошел.
***
И вот четыре года назад, когда мы с дедом сильно заболели, пришел Гой, и дед стал у него смерти просить, дескать, помоги, устал я мучиться. Внука на ноги поставь, а меня отправь в рай. Мол, я дорогу найду, меня Карна еще в сорок четвертом году туда водила. Гой сначала будто бы согласился, но потом на попятную пошел, говорит, не могу я никого отправлять в рай, а вот срок сказать имею право. И сообщил деду день и час смерти, поживи, говорит, от души, хоть это время.
Теперь деду и пришел этот срок - одиннадцатого июня шестьдесят первого года.
Он говорил об этом так спокойно и даже весело, что мне становилось страшно.
Должно быть, в это время к нам на берег явился отец, видимо, что-то подслушал и решил, что дед заговаривается...
Сколько я помню деда и воспоминания о нем самых разных людей, он не был выдумщиком, фантазером или сказочником. Для этого нужен определенный склад ума и души, умиротворение и ощущение радости жизни.
Он не был классическим дедушкой, к которому хочется забраться на колени, прижаться и попросить, чтоб рассказал сказку. После трех войн дед стал взрывным, психованным и нетерпимым, если ему перечат или что-то не так. От него доставалось всем, иногда без особой причины, просто под горячую руку подвернешься. Ко всему прочему, он постоянно болел и единственная отрада у него была, это дождаться весны и посидеть с удочкой на реке. Каждый день он проживал, как последний, и возможно, поэтому компромиссов не знал.
Первый раз его чуть не посадили вскоре после войны - гонял пешней по деревне районного начальника, которому бабушка, откупая моего отца от ФЗО, сначала дедов полушубок преподнесла, а потом еще сунула полмешка нарубленного табаку (а откупать-то и не надо было, отец не годился в училище из-за искалеченной руки). Говорят, следователи несколько раз приезжали и даже забрать пытались, но дед сел на верстак, положил рядом топор и сказал - забирайте!
Второй раз, и это я уже помню, он выбил челюсть и зубы директору леспромхоза, когда тот приехал отнимать покос, положенный деду, как инвалиду войны первой группы, и заговорил в оскорбительном тоне, мол, я тебя вообще выселю. В наших краях тогда он считался очень большим начальником, однако дед этого положения будто бы не заметил, одним ударом уложил директора в сугроб. Спас его кучер, утащивший в кошеву.
Помню кровь на снегу и страшно возмущенного деда. Потрясая узловатыми кулаками, он кричал, что его выгнали с колхозной земли, и теперь с леспромхозной, мол, что, мне теперь и земли нет, за которую я кровь проливал?
Еще помню, как приходили забирать вторую корову - при Хрущеве разрешалось держать только одну на двор, хотя в семье у нас было уже девять душ. Дед болел, однако встал с постели, приказал всем сидеть тихо и не высовываться, а сам взял вилы и пошел в штыковую на председателя сельсовета и участкового.
Жизнь у деда была суровой, и настолько пропитанной суконной реальностью, что для выдумок и фантазий в ней не оставалось места. И то, что он рассказывал, действительно можно было расценить, как воздействие солнечного удара . Потому и слушал его со слезами и разинутым ртом, и если бы на берег не пришел отец, может быть, еще что-нибудь услышал необычное и потрясающее. Я чувствовал, что откровение о путешествии к истоку реки Ура с женщиной по имени Карна не кончается - если это первая и последняя дедова сказка, то она была без конца. Однако сразу после бани его положили в горнице, а всех детей загнали спать - чтоб не путались под ногами, а может, не хотели, чтобы кто-то из нас слишком рано увидел таинство смерти.
Солнце село, закричал коростель на лугу, потом на прохоровской дороге затрещал козодой и, наконец, стемнело, за окном бесшумно запорхали летучие мыши, а я не спал и придумывал причину, чтоб нарушить матушкин запрет и хотя бы заглянуть в горницу, где умирал дед. Может, он увидит меня и еще что-нибудь расскажет? Или я сам спрошу. Пока я искал предлог, в старую избу прибежала бабушка.
- Сережа, вставай! - кликнула она. - Тебя дедушка зовет.
Я полетел в новую избу, однако сразу за порогом обвял и ощутил дрожь: даже запах в доме был другой, знакомый и незнакомый одновременно, почему-то пахло вереском и свежевскопанной землей. Дед лежал в горнице возле открытого окна, затянутого марлей, рядом на столе ярко горела семилинейная керосиновая лампа, которую берегли и зажигали в исключительных случаях, когда требовалось много света. Было полное ощущение, что он спит, но когда я на цыпочках проник в горницу, открыл глаза.
- Серега...
Он еще узнавал лица и даже улыбался. Рядом, на табуретке, сидел отец и держал дедовы руки в своих, за его плечом стояла матушка, ближе к изголовью села бабушка, и мне не хватало места, разве что у ног.
- Подойди ко мне, - сказал дед. - А вы ступайте.
- И я тоже? - будто обиженный мальчишка, спросил отец.
Он был любимый и единственный его сын; еще двое и дочь умерли от скарлатины в двадцатых, когда дед в очередной раз ушел на заработки.
Возникло недоуменное замешательство, все переглядывались, но никто не уходил, возможно, боялись оставить меня одного с дедом, вдруг я испугаюсь, заикаться начну (было такое поверье, мол, нельзя оставлять детей одних рядом с умирающим), или все еще считали, что он заговаривается и потому выполнять его требования не обязательно.
Я протиснулся между бабушкой и отцом.
- Ничего, Серега, - успокоил дед. - Ладно, пусть и они слушают, все одно бестолковые да слепошарые, ничего не поймут. Мне уж не сходить с тобой на рыбалку, а так хотелось валька поймать. Он сейчас здорово берет, только успевай забрасывать. Я место знаю, где клюет, и тебе скажу... За горой Манарагой, на Ледяном озере. Ты ведь знаешь, где Манарага? А Ледяное озеро как раз за речкой будет. Валек туда икру метать заходит. Не смотри, что озеро глухое, это кажется. Там много речек, впадают и вытекают, только под землей... Но гляди, никому! Рот на крючок. Гой мне точный срок отмерил и я уже не встану, ты дуй-ка один.
- Я не знаю, где такая гора, - сквозь зубы сказал я, чтоб не разреветься.
- Ну уж Манарагу-то всяко найдешь! - отмахнулся дед вялой рукой.
- Приметная горка, высокая. Там на верху еще люди стоят... А как озеро найти - научу. Значит, когда наверх залезешь, гляди на юг, в ведренную погоду его видать, верст восемь напрямую-то. Оно то белое, то синее, а то огненное, если на закате, и круглое. С задней стороны у него скалы отвесные, эдаким полукружьем стоят, а спереди открытое место.
Приметное озеро-то. Спустишься с горы, река Манарага будет. Она шумная, да не глубокая в том месте, так вброд перейдешь. А там немного поднимешься и вот тебе Ледяное озеро. Только выходи рано утром, и все время иди прямо на солнце. Оно идет - и ты иди, и к обеду точно на берег выведет. Где валек клюет, найдешь, место тебе само покажется. Да я и приметил, удилище воткнул. Увидишь там Гоя, смотри, на глаза ему не показывайся, не то заберет. Поди, не забыл своего обещания...
Я уже ничего не мог спросить, ком стоял в горле и слезы давили - моргнуть нельзя. Дед нам запрещал плакать и всегда сердился и ругался, если кто-то ревел.
- Сейчас иди и ложись, - приказал он. - Да завтра-то не ходи, похоронишь меня, тогда уж... Все идите спать. Чего расселись? Чего ждете? Думаете, еще что скажу?
Дед больше не обронил ни слова. Потом бабушка рассказывала, что он закрыл глаза и будто уснул. Родители не отходили от него, так и просидели возле постели до зари, думая, что он спит, и лишь после этого спохватились, обнаружили, что дед давно отошел, и завесили зеркало...
Три слова
Два этих странных, грохочущих слова, Карна и Манарага, врезались в сознание с детства, и потом я жил и долго ни от кого их больше не слышал. Третьим было Ура, однако привычное, оно не звучало так завораживающе. После смерти деда несколько лет я осторожно, будто между прочим, спрашивал, где находится гора Манарага и река Ура у всех людей, кому доверял. Образованный дядя Саша Русинов (окончил лесной техникум), и изучавший топографию, ничего не знал, но чтобы не ударить в грязь лицом, сказал, что племя гоев живет в Дагестане и один представитель его есть на лесоучастке и фамилия у него - Гоев. Река Ура течет в Уругвае, сказал он, а гора Манарага стоит в Испании.
Я ему не поверил, ибо мой дед никогда в этих краях не был и быть не мог.
Киномеханик дядя Гена Колотов, посмотревший в своей жизни тысячу самых разных фильмов, что-то такое видел, только вот в каком кино, точно не помнил, но приблизительно в индийском. Дядя Паша Кудинов, живший в городе Томске и приезжавший на диковинном тогда у нас автомобиле "Москвич" (даже галстук носил и красивые запонки), посмотрел на меня как-то очень уж внимательно и ответил осторожно:
- Таких названий я никогда не встречал...
- А имя Карна есть?
- Возможно, есть, только не русское.
Потом он сказал родителям, что у меня какие-то странные вопросы и фантазии, неплохо бы показать меня врачу, пока не поздно. Отец к моему любопытству относился с пониманием и легкостью, мол, возраст такой, интересно пацану, вырастет и все пройдет, ружье ему да весло - вот его ремесло. А матушка моя на пятом году от явления Гоя сама заболела базедовой болезнью, стала молчаливой, задумчивой, как наша река по вечерам, и чаще всего отвечала невпопад. Бабушка обычно отмахивалась - я не знаю, не приставай, и однажды заругалась, что ты, дескать, за дедом всякие глупости повторяешь? В бреду он был после солнечного удара , наговорил невесть что и ребенку голову заморочил А я чувствовал, что она знает, но скрывает от меня правду, и она, эта правда, связана с чем-то очень важным и болезненным в ее жизни.
И только спустя двадцать один год, когда я делал первую попытку написать повесть о своем деде, она сначала долго отбояривалась, дескать, задурил тебе голову дед с малолетства, но все-таки кое-что приоткрыла.
Оказывается, всю жизнь бабушка страдала от ревности: женщина, подобравшая моего тифозного деда на станции, сделала это будто бы не бескорыстно. Выходить-то она выходила, но женила его на своей дочери-перестарке. У них родился ребенок, мальчик по имени Олег.
Вскоре дед сбежал от своих спасителей, однако всю жизнь помнил о сыне, а бабушке от этого было ножом по сердцу. Обиженная на всю жизнь, она ревновала его, отпуская на отхожий промысел (верно, бабенку завел, а иначе что ездит-то?) и проводила аналогию с событиями осени сорок четвертого, когда Карна водила деда на реку Ура. Он эту Карну звал в полубреду, когда сильно болел, имя ее для бабушки казалось зловещим...
Последний раз я спрашивал о таинственных горе и реке уже в пятом классе, у своей учительницы русского языка и литературы Юлии Леонидовны.
В Торбу, где жили в основном ссыльнопоселенцы, вербованные, да сибулонцы, и нравы царили соответствующие, она приехала на преддипломную практику. Когда вошла в наш класс, показалось, явилось чудо - тоненькая, нежная. Тяжелые, длинные волосы каштанового цвета все время клонили маленькую головку на одну сторону, и негромкий завораживающий голос звучал, будто весенний ручеек. Ей сразу же дали прозвище - Удочка, может, потому, что все время кивала, а точнее, клевала головой. А я влюбился сразу и от этого целую зиму старательно изучал ее предметы, даже пятерки получал, чтоб заметила и обратила внимание. Мне не хватало уроков, чтоб на нее насмотреться, и я торчал под дверью других классов, где она вела литературу или поджидал на улице в укромном месте, чтоб не заметила.
Поговорить с ней я осмелился, когда мы остались вдвоем: она что-то записывала в журнал, а я мыл полы в классе.
- В институте всему учат? - поинтересовался для порядка и без всякой задней мысли.
- Практически, да, - отозвалась Юлия Леонидовна. - Все зависит от того, чему сам человек научится.
- А вы знаете, от чего происходит солнечный удар? - спросил я, ворочая парты и показывая свою силу.
Она округлила глаза и, кажется, наконец-то рассмотрела меня.
- Если человек перегреется на солнце...
Мне чудилось, у нас складывается вполне научный разговор и ей со мной интересно.
- Нет, если человек перегреется, у него будет тепловой удар! - черт меня дернул заспорить. - Это я читал. А от чего бывает солнечный?
Чем солнце бьет? Лучами? Или светом? Но я пробовал целый день сидеть голым, только шкура облезла потом, и все.
- Любопытно, никогда не задумывалась, - рассмеялась она, и я понял, что час настал.
- Где находится гора Манарага?
- Манарага?... Посмотри на карте.
- Смотрел, нету. И реки Манараги нету.
- Наверное, это очень маленькая гора, если ее нет на карте, - объяснила Юлия Леонидовна.
- А почему когда в атаку бегут, кричат - ура?
- Это боевой клич.
- А почему тогда река называется Ура?
- Разве есть такая река?
- Есть, далеко на севере, где была война, - охотно объяснил я. - Может, там наши ходили в атаку, кричали "ура!" и потому так назвали?
- Откуда ты знаешь, что на севере?
- Читал!
- Молодец! - искренне похвалила Юлия Леонидовна. - Это хорошо, что ты много читаешь. Наверное, у вас есть домашняя библиотека?
- Есть! - соврал я, хотя в доме были только школьные книжки, журналы "Охота" и "Огонек" да с десяток полурастерзанных томов без начала и конца. Но сестра училась на два класса выше меня, и я читал учебники за седьмой класс.
- Но учишься ты неважно, - она посмотрела в журнале. - По всем точным дисциплинам у тебя тройки.
Мне не нравилась эта тема, и я решился на последний вопрос.
- А Карны на свете бывают?
- Карны? - отчего-то насторожилась Юлия Леонидовна. - Кто это?
- Ну, это такие женщины, которые отводят убитых в рай.
Она почему-то испугалась, вероятно, боялась мертвецов, встала и заволновалась.
- Какие необычные вопросы у тебя. Карны... Ты, наверное, читаешь взрослые книжки?
- Читаю, - соврал я.
- Нужно читать книги соответственно возрасту. Сейчас я дам тебе Гайдара. - Она достала из шкафа толстую книгу. - Вот, возьми. У вас дома такой нет.
Я был уверен, она тоже как все, не знала и может быть впервые слышала имя Карна, однако спрашивать про гоев и спорить больше не стал, взял книжку и ушел радостный, потому что у нас наладился контакт.
Спустя несколько дней она сама оставила меня после уроков и показалось, была чем-то смущена.
- Ты от кого услышал это имя?
- Какое имя?
- Карна.
Я чуть не выпалил, от кого, но вовремя вспомнил наказ деда - рот на крючок!
- Это я прочитал, - опять соврал, не моргнув глазом.
- А в какой книге? - хотела поймать.
- Не знаю, корок не было. Батя из макулатуры принес.
Раньше охотники-промысловики работали от сельпо, где вместе с ягодой, грибами и пушниной заготовляли бумагу и тряпки. Отец действительно иногда привозил домой драные книги, и это был единственный источник пополнения "библиотеки".
- Про что еще там написано, помнишь? Про Манарагу и реку Ура?
- Ну!
- Никогда не нужно лгать! - ласково проговорила Юлия Леонидовна и осторожно погладила по голове. - Возьми себе это за правило.
Она еще не знала о моих чувствах, и что малейшее "лишнее" внимание действует, словно кипяток. Я онемел, покраснел и убежал, как ошпаренный и потом пропустил несколько ее уроков, таким образом избегая встреч. Мне казалось, вернее, я воображал, что она и есть Карна, только совсем молоденькая и неопытная, а я узнал про это и ее напугал.
Должно быть, Юлия Леонидовна догадалась, что происходит, никому жаловаться не стала, а подкараулила меня на дороге, когда я шел домой.
- Вот ты мне попался! - говорить строго она не умела, но старалась. - Ты почему не ходишь на мои уроки? Если не будешь учить русского языка и литературы, останешься человеком с мертвым сознанием .
Я проглотил язык и не мог подняв глаз: почему-то вне класса голос ее был совершенно иным и очаровывал.
Юлия Леонидовна подобрела, держась на расстоянии, подала книжку, завернутую в газету.
- Возьми. Здесь в одном месте упоминается твоя Карна. Только прочитай все и найди.
Это было неведомое тогда мне "Слово о Полку Игореве"...
Она будто бы хотела уйти, даже ручкой помахала, но вдруг улыбнулась, заклевала головой и приблизилась на опасное расстояние - я почуял тончайший запах духов.
- Скажи, откуда ты знаешь о Карне?
Наверное, я бы признался ей и выдал тайну деда, но у меня кружилась голова и земля уходила из-под ног.
- Кто она? Богиня? Княгиня смерти? Или просто плакальщица?
Я молчал, как партизан на допросе. Возможно, в этот миг и родился комплекс: в присутствии женщины, которая нравится, я всегда терял дар речи.
- А кто рассказывал о горе Манараге? - допытывалась она. - Это у вас в семье говорят? Может, существует такое предание? Почему ты молчишь? Не хочешь со мной разговаривать? Или тебе запретили говорить?
... Ну, хорошо, ты можешь сказать, как тебя вылечили?
Люди говорят, к вам какой-то человек пришел и велел красного быка найти... Помнишь? Твои родители ездили и искали быка... Ты же запомнил этого человека? Как его звали? Он был знахарь? Колдун или чародей?
Юлия Леонидовна лишь усугубляла дело, ибо меня уже однажды учили помалкивать о том, что говорят в семье. Тем более, я не мог выдать Гоя!
- Понимаешь, я собираю фольклор и записываю древние обряды. - Она покивала головкой, справляясь с тяжестью волос. - Мне дали такое задание в институте, а потом мне самой очень интересно. Я бы тоже хотела научиться лечить людей, произносить древние заклинания. Если бы ты мне рассказал, откуда ты знаешь о Карне, Манараге и реке Ура, то очень бы помог мне. Или об этом знахаре, который тебя вылечил. Ты ведь знаешь, где он живет?
При этом Юлия Леонидовна взяла меня под руку, будто бы прогуляться, но это ее движение не взволновало, а вдруг насторожило.
- Я узнала, гора Манарага находится на Приполярном Урале, а река Ура действительно на севере, в Мурманской области. Почему ты о них спрашивал? Чем они связаны - гора, река и Карна? Кто в вашей семье об этом говорил? Ты же умный парень, ты мне скажешь.
Она хотела поймать меня на голый крючок!
Высвободив руку, я сунул ей книжку и побежал, боясь сморгнуть, чтоб не потекли слезы. Отчего-то неясная обида щемила сердце.
На следующий день я опять не пошел на занятия к Удочке, проболтался все утро в весеннем лесу и явился в школу только на третий урок. И сразу понял, что Юлии Леонидовны ни в учительской, ни в классах нет. На перемене сбегал в барак, где она жила - замок на двери! Первое, что пришло в голову - моя возлюбленная обиделась, из-за меня не собрала свой фольклор и уехала из поселка насовсем.
И никогда ее больше не увижу!
В тот момент я готов был выдать ей любые тайны, даже про Ледяное озеро рассказать, где клюет рыба валек с золотом в брюхе. В тоске и печали просидел на вскрывшейся реке до вечера и вернулся домой - под отцовский ремень.
Сначала батя выдрал меня от души и лишь потом спросил, знаю ли, за что. Я ответил без запинки, на всякий случай признавшись сразу во всех грехах.
- В следующий раз отниму ружье, - пригрозил он самым страшным наказанием.
Уже год было, как матушка умерла и поэтому словесным воспитанием пятерых детей занималась бабушка. Она и сказала, что к нам приходила учительница Юлия Леонидовна, пожаловалась, что я уже неделю пропускаю ее уроки, и отца не вызывают в школу, а меня не тащат на педсовет лишь потому, что мы остались сиротами и еще не пережили горе - жалеют.
Спустя некоторое время после экзекуции бабушка вспомнила еще один мой проступок - болтливость, мол, с чего это вдруг Удочка расспрашивать стала про какие-то горы, реки и эту женщину - Карну? Ты что, дескать, людям всякий бред пересказываешь? Что они про тебя подумать могут? И вообще про нашу семью? Придержи язык!
Я был оглушен и растерзан, все это напоминало предательство, или хуже того, месть, однако на утро исправно явился на урок Удочки и сел за первую парту - туда, где всю зиму сидел, чтоб смотреть на нее и внимать каждому слову. И сразу же увидел, как ей было стыдно, хотя под школьной гимнастеркой она не видела моей спины. Юлия Леонидовна то и дело спотыкалась, замолкала, сбивалась и еще больше клевала головой, измученная грузом волос. Наконец, еще до звонка отпустила нас, убежала в учительскую, а потом и вовсе к себе в барак - сказали, у нее голова разболелась и заменили литературу на труд.
У нас все меняли на труд - и веселый Лентифеич учил делать табуретки...
Мне стало так жаль ее, что я и о предательстве вмиг забыл и после уроков набрался храбрости, окольными путями прокрался в барак и дерзко постучал в учительскую дверь.
Обстановка в этих бараках была неисправимо убогая и что не делай, какие занавески не вешай и не застилай полы, все равно из всех углов, вместе с холодом и крысами будет вползать нищета и неустроенность.
Потом всегда вспоминал этот первый и последний визит к Юлии Леонидовне, когда видел картину "Княжна Тараканова". Моя учительница почему-то стояла на кровати, обняв себя за плечи, с видом потерянным и отрешенным.
- Знала, что придешь, - сказала, глядя куда-то мимо. - Ну что же, садись, начнем урок.
Ее слова пугали и сеяли неясные надежды одновременно. Я стоял у порога, готовый в любой момент открыть спиной дверь и исчезнуть.
- Ты знаешь, что меня ждет? - она говорила будто бы сама с собой.
- Нет, ты счастлив в своем мире, и потому представить себе не можешь.
Хотя ты уже совсем взрослый и много что понимаешь... Через год я закончу институт и получу диплом филолога. По распределению меня зашлют в какую-нибудь дыру, вроде вашей деревни, и поселят вот в такой барак.
На целых три года. Я быстро забуду, чему меня учили и что я хотела от жизни. Целый день я буду вколачивать в ваши головы ерундовые знания, а вечером выть от тоски. Выть!.. И от тоски же выйду замуж за какого-нибудь вербованного или сибулонца. Он будет валить лес, пить водку, ругаться матом и ревновать меня. Когда же пройдут эти страшные три года, я превращусь в бабу и уехать отсюда не захочу. И не смогу.
Потому что произойдет полная деградация и убогая жизнь тоже покажется жизнью...
К тому времени я уже знал, что такое безысходность и вкусил ее сполна, когда увидел свою матушку в гробу. Несколько дней потом ходил по лесу возле Божьего озера и думал, что на земле все есть, все существует - деревья стоят, видевшие маму и жившие вместе с ней, вода течет, в которую она смотрелась, птицы поют, коровы мычат, даже червяки в земле ползают, а матушки моей уже нет! И никогда-никогда не будет!
Но Юлия Леонидовна была жива, здорова и красива, у нее не умерла мама, никто ее не стегал ремнем, не ставил к доске или в угол, наконец, не ограничивал свободу - делай, что хочешь!
Она спустилась с кровати на пол, взяв меня за руку, провела к столу и усадила на табурет.
- А ты почему-то не хочешь мне помочь, - проговорила тихо и ласково, присев на корточки возле меня. - Ведь это ты вселил надежду, ты поманил меня этими волшебными словами и образами. Теперь я все время повторяю - Манарага, Ура, Карна... Я слышу, я чувствую, за ними кроется нечто необычное, великое! Это не просто фольклор, песни и частушки, это ключи к открытию, понимаешь? Если бы ты мне рассказал, откуда ты знаешь эти слова, что с ними связано, я могла бы привезти хороший, интересный материал, и тогда бы меня приняли и аспирантуру, без распределения. Ты ведь не хочешь, чтобы я погибла в вашей Торбе?
Я не хотел, чтоб она погибла, но ее вкрадчивость и какая-то униженность настораживали, ибо от всего этого отдавало обманом. К тому же, я не видел ничего зазорного в нашей жизни и не понимал, отчего ей так не хочется ехать в Торбу? Закончила бы свой институт, поработала бы в нашей школе, а там, глядишь, я вырасту и женюсь на ней.
- Догадываюсь, ты связан клятвенным словом, правда? - она пыталась смотреть мне в глаза. - И все твои родственники не говорят, потому что дали обещание... Хорошо, больше не буду спрашивать. В конце концов, могу сама найти ответы, в этом и заключается научный поиск.
Только скажи, кому ты давал слово? Тому человеку, который вылечил тебя? С помощью шкуры красного быка?
Она опутывала меня своей журчащей речью, словно тенетами, и чем ласковее говорила, тем больше я понимал, что меня хотят обмануть, выманить самое дорогое и сокровенное. Мне становилось так стыдно, что я взглянуть прямо не мог, поскольку передо мной был не кто-то чужой и хитрый, а моя, пусть еще по-детски, но возлюбленная.
И одновременно испытывал другое чувство - возрастающее любопытство к тайне этих трех слов-образов: если умная и красивая Юлия Леонидовна так страстно и отчаянно хочет узнать о какой-то реке, горе и женщине по имени Карна, значит, в них действительно заложен великий смысл и рыба валек, наглотавшаяся золота, не бред моего деда...
Тем временем она пошла на крайние, запрещенные меры - это я осознал потом, когда повзрослел, хотя и в тот миг понимал, что происходит. Если бы Юлия Леонидовна ничего не требовала от меня, не обманывала и не хитрила, то, пожалуй, исполнилось бы мое самое сокровенное желание. Она приподняла мою голову и сначала показалось, понюхать хочет, курил ли я (учительницы нас часто обнюхивали после перемен, поскольку мы бегали курить за мастерскую и так опасно приближали свои лица, что становилось страшно). Но Юлия Леонидовна вдруг наклонилась совсем близко и поцеловала в щеку. Не чмокнула по-матерински, а именно поцеловала и еще дохнула горячим шепотом:
- Я же знаю, ты любишь меня, а все влюбленные - добрые...
Хорошо, что двери в бараке открывались наружу, иначе бы я вышиб ее. Уже не взирая на соседей, пронесся по коридору и чуть не слетел с высокого крыльца.
Казалось, все видят меня, тычут пальцами и смеются!
Я убежал на нижний склад, забился в штабель с лесом и, не зная, как избавиться от жгучего, волнующего чувства и одновременно, от липкого стыда, сначала долго и тщательно вытирал лицо, руки, но лишь перемазался смолой, истекающей из сосновых бревен. Тогда я ушел на берег, разделся и искупался в ледяной полой воде, отмылся с песком и от холода немного пришел в себя. Однако возвращаться домой было еще совестно - вдруг сразу все увидят и поймут? Даже по дороге идти неловко, ну как знакомые встретятся? Я прошел лесом все семь километров и, не показываясь на глаза домашним, двинул к Божьему озеру.
Сюда я приходил в самые тяжелые минуты в любое время года, но уже не для того, чтобы найти жилище Гоя, хотя подспудная дума о нем всегда присутствовала; это было единственное место, где отступало горе, где все становилось понятно и потому хорошо. Время больше не играло со мной злых шуток, заблудиться в этом древнем бору было невозможно, я знал "в лицо" все деревья, кусты вереска и даже лосих, которые приходили сюда в мае, чтоб рожать детей.
Повесив ранец с книжками на сук, я до вечера бродил между гигантских сосен, почему-то уже без стыда вспоминал, что произошло и удивительное дело - все прощал Юлии Леонидовне!
А на следующий день - литература была первым уроком - помчался в школу с искренним желанием ее увидеть. Но в двух километрах от Торбы затопило болото, за ночь размыло песчаную дорожную насыпь и образовалась настоящая река, глубиной до пояса. Я хотел обойти этот поток через сосновую гриву, "партизанской тропой", но там оказалось еще глубже. Тогда я вернулся на дорогу, не раздеваясь, мужественно перебрел реку, вылил воду из сапог (штаны и выкручивать не стал - дорогой просохнут) и припустил бегом, однако все равно опоздал на урок.
И тут произошло непоправимое - нежная Юлия Леонидовна с неведомой прежде жесткостью вытолкнула меня из класса, объявив вдогонку, что я получаю "неуд" за последнюю четверть...
Я залез за школьную печку в коридоре и оплакал свою любовь.
***
Спрашивать больше было не у кого, людей, кому можно доверять, соответственно с возрастом становилось все меньше и меньше. Выход оставался единственным - скорее вырываться, выламываться из детства и искать самому. Неожиданный огонь, зароненный дедом, с годами не угасал, хотя тепло его в разные периоды жизни казалось далеким и напоминало лунный свет, однако начинало греть, как только я ощущал относительную свободу. Лесоучасток в Торбе закрылся, а вместе с ним и школа, легкий на подъем полубродяжий народ в течение одного года растекся по другим поселкам, но напоследок лесорубы сделали свое черное дело: подбирая остатки былого таежного величия, смахнули бор возле Божьего озера. Сосны толщиной до полутора метров оттрелевали на нижний склад, раскряжевали, сложили в гигантский штабель, но спустить в реку уже не успели - до нового половодья Торба не дожила. Бревна как-то очень уж быстро сгнили в прах, сверху их присыпало листвой и пылью; сначала там выросла трава, потом кустарники и деревья, сейчас виден лишь курган с чистым березовым лесом, где уже несколько лет живет сокол-сапсан.
У меня всегда возникает чувство, что под курганом лежат кости...
Мы тоже уехали из нашей деревни в районный центр Зырянское, оставив на торбинском кладбище могилы двух самых дорогих людей, матушки и деда. Вместе с переездом закончилась и наша вольница в прямом смысле.
Жизнь в большом поселке стала совсем иная, зависимая от всяческих условностей, причин и обстоятельств. Казалось, и люди кругом другие, и звезды над головой не такие, и солнце мутное, пыльное, словно в пустыне. Но зато здесь были библиотека и книжный магазин. Правда, уже через полгода выяснилось, что нужных книг нет, о Манараге я вообще не нашел ни слова, река Ура упоминалась единственный раз, и то в связи с Ура-губой, куда впадала.
Но здесь наконец-то я заполучил "Слово о Полку Игореве" и прочитал это упоминание: "За ним кликну Карна, и Жля поскочи по Руской земли смагу людем мычючи в пламяне розе".
И ничего не понял, впрочем, как и все исследователи этого литературного памятника, лишь раззадорился, появилось еще больше вопросов, и вместе с тем еще раз удостоверился и как бы обновил память: не обманул дед! Не в бреду, не под воздействием солнечного удара , назвал он это имя - Карна!
А таинственное "Слово" он не читал уж точно, ибо просто был "негр".
После восьмого класса я завис в неопределенности, как в невесомости. Надо было или идти в девятый, или выбирать профессию, а хотелось много чего: еще не отболело желание пойти отцовским следом в охотники. Начитался я Федосеева, и поманило в геологию; когда глядел на самолеты в небе, тянуло в авиацию (пока приписная комиссия не забраковала по зрению), была мысль пойти в механизаторы, как все, и даже в киномеханики. Но никуда не шел, поскольку ни одно это дело никак не соприкасалось с моим, еще детским устремлением к тайне трех, заповеданных дедом, слов.
Батя смотрел, смотрел на все это и ближе к осени нашел мне теплое место - в кузнице промкомбината, молотобойцем. Целый год я махал кувалдой, ковал железо, а сам думал, точнее, будто от солнечного удара бредил думами о своей Карне, о неведомых реках и горе, неподалеку от которой есть Ледяное озеро с рыбой валек. Была мысль заработать денег и поехать на Урал, (я даже купил себе велосипед "Урал" и мечтал о мотоцикле с таким же названием), однако в середине зимы неожиданно определился с профессией - пойти в геологи! Во-первых, они работают в горах и тайге, живут бродяжьей походной жизнью, что было мне по душе. Во-вторых, можно устроиться в экспедицию, работающую на Урале, где-нибудь поблизости от Манараги, или в Мурманской области, где протекает Ура.
Наконец, я знаю (может быть, один в мире!) секрет, как и в каких реках и ручьях следует искать золотые россыпи.
И еще, геологи острее всех чувствуют природу - леса, горы, камни, реки и озера, много видят и слышат, будет у кого спросить о Карне, например. А где-нибудь обязательно ее встречу. Или даже самого Гоя, и если повезет, доберусь до Ледяного озера, где поймаю свою золотую рыбку...
Я поступил в геологоразведочный техникум, однако судьба вела, разрушая мои замыслы и одновременно пробивая свой путь. Тогда я этого еще не понимал, не знал своего рока, но интуитивно ему повиновался или был вынужден это делать, иногда из-под палки. В семидесятом забрали в армию с третьего курса. Служил в городе Электросталь, но потом неожиданно попал в Москву, в батальон особого назначения (ОМСБОН), который охранял ЦК КПСС и объекты Третьего спецотдела Министерства финансов СССР - то есть, хранилища золотого запаса и предприятия по разборке и обработке алмазов.
Еще не поймав валька, я увидел столько золота, что резко потерял к нему всяческий интерес.
Всегда думал, что драгоценности производят на человека какое-то особое впечатление. Народ у нас служил самый разный (правда, только славяне), но за два года не встретил ни одного, кто бы проявил некие специфические чувства; напротив, были ребята, у которых этот металл вызывал угнетенное состояние, чувство тяжести, головные боли и полное, думаю, искреннее отвращение. На маленькие объекты я ходил начальником караула, имел право входить в цеха и хранилища, но, к своему собственному удивлению, испытывал полное спокойствие и даже безразличие к драгоценностям. Например, в алмазных разборках сидят девчонки и сортируют камушки, у каждой на столе эдак каратов по сто насыпано в фаянсовую пиалу, и самих девчонок в зале тоже около сотни, и все невероятно симпатичные для солдатского глаза - не оторваться.
А золото... Когда перед тобой его многие сотни тонн, оно вообще не вызывает никаких чувств, просто - штабеля ящиков из многослойной фанеры с веревочными ручками и весом по шестьдесят килограммов каждый.
Серебро - так и вовсе сложено поленницами из слитков, как дрова или чугун. Приезжают бронированные фургоны, привозят или увозят сразу тонны по три и грузчики в синих халатах таскают эти ящики, как бы таскали, например, картошку в овощном магазине. Разве что, у этих носы не синие, выбриты чисто и слегка надушены.
Правда, один раз глаза загорелись, когда на объект (18 караул) привезли на разборку большую золотую вазу, усыпанную бриллиантами. Ее изготовили, чтоб Брежнев преподнес ее какому-то африканскому королю, но тот переметнулся к американцам, подарок оказался неуместен, и чтобы не выдавать намерений нашего вождя, произведение искусства решили уничтожить, несмотря на высокую художественную ценность - подобные вещи я видел только в Алмазном фонде. Если б черный король посмотрел заранее, что ему хотели подарить, никогда бы нас не предал и на эту вазу мог бы кормить свое государство лет пять - так сказал мастер, который вынужден был выковыривать камушки, распаивать вазу на составные части и совать их в пресс. Он разрешил мне подержать в руках этот шедевр, мол, потом вспоминать будешь, внукам расскажешь, ведь больше этой красоты никто не увидит...
Вообще, армия была для меня цепью самых разных искушений, от возможности остаться старшиной в своей роте и поступить, например, в военное училище или московский гражданский вуз, до службы в Третьем спецотделе и даже женитьбе на "алмазной" девушке-москвичке (моя подруга Надежда не дождалась, вышла замуж через полгода моей службы и даже фотографии со свадьбы прислала, чтобы я полюбовался, какой красивой она была невестой).
Перед демобилизацией вербовщики с большими погонами из ОМСБОНа не вылазили, предлагали хорошие оклады, быстрое продвижение по службе, квартиры в Москве, учебу, загоняли в угол тем, что наш батальон - кузница кадров, и если не согласимся, от нас не отстанут и по месту жительства, хоть в милицию, но все равно завербуют.
Однако я чуял невероятное, необъяснимое внутреннее сопротивление и отбивался, как мог. Перед глазами маячила Манарага, текла река Ура, а впереди шла Карна в синем плаще. В результате, нас с другим, тоже стойким старшиной, ротный проводил до КПП и выпихнул за ворота.
Только мой каптер Савчук открыл окно в туалете на третьем этаже и сыграл нам на гармошке марш "Прощание славянки", пока мы шли через плац.
***
После техникума я получил свободный диплом и сразу же рванул на Урал, но в аэропорту Свердловска встретил однополчанина Толю Стрельникова, с которым вместе учились в сержантской школе, тоже геолога, выпускника Миасского техникума. Он распределился в Красноярское геологоуправление, в какую-то сверхсекретную экспедицию, которая только что организована и будет работать на Таймыре, что искать - неизвестно, но только не уран. Я был так близко от Манараги, что мысленно видел ее вершину, склоны и даже белое, синее или огненное Ледяное озеро; я уже шел к нему и смотрел, где мой дед приметил место, воткнув удилище, и в рюкзаке лежал полный набор рыболовных снастей.
План был по-детски наивный и дерзкий: отловить валька, выпотрошить и приехать в местное геологоуправление с конкретным результатом - горстью самородков. А потом показать, где и как следует добывать золото.
Но Толя неожиданно заговорил про рыбалку, дескать, на Таймыре такие озера есть, что в некоторых даже валек клюет. Показалось, я ослышался, потому что еще ни от кого, кроме деда, о вальке не слышал.
- Это что за рыба такая? - шалея, спросил я.
- Да я сам не ловил... - признался он. - Но говорят, доисторическая, старше динозавров, жила во времена, когда у Земли было два спутника и другое земное притяжение.
- И что, просто клюет на удочку?
- Говорят, клюет. Только об этом никому ни слова. Я о вальке тебе ничего не говорил. Понимаешь, не моя тайна...
Толя Стрельников был родом с Южного Урала и вполне мог слышать о Ледяном озере и золотоносной рыбке, так что охотник на нее я был не один.
- Ну что, поехали на Таймыр?
Я сдал билет, купил новый, в Красноярск, и через два часа улетел от своей мечты. Там действительно формировалась Полярная экспедиция, человек пять геологов уже месяц томились на базе в общаге, ожидая результатов всевозможных спецпроверок, а нам со Стрельниковым помогла армейская служба. Через несколько дней получили все пропуски и допуски, сели в самолет и улетели на Таймыр. Только вот по-прежнему не знали, что едем искать!
И лишь в Хатанге, на базе экспедиции, в вагончике у главного геолога нам открыли эту сверхсекретную тайну. Ну конечно же, алмазы!
Причем необычные, космического происхождения, потому что работать предстояло в астроблеме, то есть, в звездной ране, а проще говоря, на дне метеоритного кратера. Толик был ростом под два метра, потому служил в парадном полку (был такой в дивизии Дзержинского), топал по Красной площади и золотого пороху не нюхал, потому вдохновился, загорелся страстным желанием искать драгоценные камушки и на рыбалку ходил редко. А я бегал от озера к озеру сначала с удочками, потом со спиннингом и сетями, однако доисторическая рыбка не клевала! Та же, что удавалось поймать, оказывалась то чиром, то сигом, омулем или простой ряпушкой. Возникло подозрение, что Стрельников заманил меня вальком на Таймыр, чтоб одному не ехать, и когда началась зима, первая полярная ночь, пурга по три недели кряду и жизнь в замкнутом пространстве вагончика, как на космическом корабле, нервы не выдержали и я сказал Толику все, что думаю.
Он клялся и божился, что не обманывал меня, и валек в таймырских речках и озерах действительно водится, и это он знает от совершенно надежного человека. Другое дело, поймать редкостную рыбку удается не всем. Мол, и наплевать на нее, в конце концов мы приехали сюда не валька ловить, посмотри, какая интересная здесь работа - искать алмазы!
Мне уже ничего здесь не нравилось, едва дожив до весны, начал киснуть, поскольку эти самые алмазы буквально валялись под ногами, стоит лишь наклониться, поднять любой камень и расколоть. На руде стояли палатки и вагончики, по ней ездили на тягачах и оленях, она лежала на каменке в бане и мы плескали на нее кипяток; содержание драгоценного минерала на тонну породы в сорок раз превышало все известные, например, в кимберлитовых трубках Якутии. Только алмаз был не тот, что гранят, оправляют золотом и носят в виде украшений. Этот был техническим, им армировали резцы для сверхточной обработки металла и камня, его загоняли в буровые коронки, наждачные круги и пилы, однако человеческий разум не мог еще придумать такой техники и технологии, чтоб отделить его от крепчайшей породы.
На Таймыре мне впервые приснилась Манарага, которую прежде я не видел. Во сне увидел довольно пологие склоны, поднимающиеся от подошвы, но выше они становились круче, круче, и сама вершина представляла собой более десятка конусообразных столбов с каменными осыпями у основания. Будто я стою внизу, надо подниматься, но меня охватывает жуть, ни рукой, ни ногой не пошевелить. А кто-то говорит, мол, что же ты, пришел к горе, а подняться боишься? Давай, иди, это же и есть Манарага! Будто я все-таки пошел и добрался до самых зубьев на вершине, но склоны на глазах вздыбились, и я повис на руках.
Подо мной оказалась бездна! И я будто уже знаю, что непременно рухну вниз и погибну, если не проснусь.
Проснулся - сердце выпрыгивало. Мы жили в маленьком, по трубу заметенном снегом вагончике, печь топили круглые сутки бурым каменным углем, так что кислород сильно выгорал, а еще, как известно, чем ближе к Северному полюсу, тем его меньше. И я решил, что это состояние возникло из-за переизбытка углекислого газа. Чем-то ведь надо было объяснить свой ночной страх и кошмар, хотя Толик чувствовал себя превосходно, и от этого газа снились ему лишь прекрасные женщины да предстоящие экзамены: мы поступили на геолого-географический факультет в университете и готовились к первой сессии. Ничего ему рассказывать я не стал, думал, не повторится, однако после праздника встречи солнца (первый восход после полярной ночи) сон повторился почти в точности, но с развитым сюжетом. Когда я завис над пропастью, выше меня, на пике, появился Гой.
Я не помнил его лица, но тут увидел пожилого бородатого человека с немигающим, птичьим взором и палкой в руках, которой он погрозил и сказал:
- Не ходи на Манарагу!
На сей раз кислорода у нас хватало, потому что мы перебрались в "командирский" вагончик с подогревающимися от электричества полами, и я растолковал себе сон, как сигнал, что пора на материк, на Урал, к заповедной горе, потому как во сне все бывает наоборот. И как только принял решение, так сон этот больше не повторялся.
Уволиться сразу не смог, не хватало геологов, и меня обещали отпустить в начале лета, как только прибудет замена - молодые специалисты. Улететь самовольно я не мог по одной причине - никто не пустит в вертолет, другого транспорта отсюда на материк не было, а пешком нереально - шестьсот километров по тундре без карты не пройти.
В начале лета замена не приехала, а тут начался полевой сезон, маршруты и до осени об увольнении можно было забыть. Тем временем в экспедиции началась подготовка к зиме, и я отпросился у начальства курировать добычу бурого угля, чтоб остаться в поселке и не ехать с полевым отрядом на северный вал кратера: как только приедет молодняк по распределению, можно в тот же день уволиться и уехать.
Вскрышу угольного пласта делали на берегу реки, где он залегал на глубине около двух метров: снимали бульдозером растепленный верхний грунт, оставляли на день, чтоб отошла мерзлота, и сгребали жижу. После третьей такой операции началось быстрое таяние (температура летом доходила до семнадцати градусов), в реку потекла сель, бульдозерист с эксковаторщиком ушли в поселок, а я остался, чтоб подыскать и нарезать новый участок для вскрыши. Утром обнаружил какой-то объемный предмет, выпирающий из мерзлоты. Все было в грязи, и сначала я не мог понять, почему на глубине в полметра обнажился холм, поросший старой густой травой. Потом принес ведро воды, отмыл небольшой фрагмент и вместо травы увидел желтовато-серую густую шерсть.
Земля в тундре - скованная мерзлотой жидкая трясина. Весь полярный день я сгонял метлой грязь, чтоб таяло быстрее, и к концу суток один бок животного почти обнажился. Это был молодой мамонт с метровыми, искристо-белыми бивнями, совершенно целый и промороженный.
Я накрыл тушу брезентом, придавил его камнями и побежал в поселок.
От радости сердце выпрыгивало: для меня находка была дороже и интереснее алмазов. Сразу пришел к начальнику экспедиции, рассказал - тот посадил в свой вездеход и через полчаса мы были на берегу. Тогда я еще не знал, был ли у него какой-то опыт относительно таких находок или нет, но он приказал мне никого к мамонту не подпускать, особенно бичей, и организовать охрану. Кроме того, вдоль берега уже бродили облезшие и обнаглевшие летом песцы. Сам же поехал на радиостанцию отправлять срочные радиограммы в Красноярск и Академию Наук СССР.
Первая ночь прошла почти спокойно, людей не было, а песцы подходили не ближе, чем на сотню метров, но с ростом их количества увеличивалась смелость. Я выстрелил в их сторону единственный раз под утро, чтоб лечь и поспать часа два. Но проспал четыре, и когда выглянул из палатки, около трех десятков песцов сидело по краю вскрыши, будто стая бродячих собак.
От ружейного дуплета мелкой дробью они разбежались, чтоб через четверть часа собраться вновь, но уже в удвоенном составе.
Патронов было всего один патронташ, много не настреляешь, поэтому я взял лопату и сначала часа полтора разгонял текучую, как ртуть, стаю, потом завел бульдозер и поставил его рядом с тушей мамонта. Гул двигателя отпугивал животных, но все равно держались они на расстоянии в тридцать шагов и постепенно смелели.
Между тем сель из раскопа все текла и текла, мамонт вытаивал, несмотря на брезент, а накрыть от солнца весь раскоп было нечем. К тому же, трещавший бульдозер создавал вибрацию, помогал растеплению грунта и сам медленно погружался в грязь.
Я надеялся, что на третьи сутки ученые прилетят обязательно, поэтому надо день простоять, да ночь продержаться. К тому же, вечером приехал начальник экспедиции, привез продуктов, радиостанцию, две сотни патронов и сказал, что все в порядке, завтра высылает вертолет за учеными и уже запросил большой военный транспорт, чтобы взять мамонта на подвеску и доставить в Хатангу, где должен быть специальный грузовой самолет с запасом жидкого азота. Напоследок попросил отмыть тушу, чтобы перед учеными не ударить в грязь лицом, и уехал.
Я считал, что никто в экспедиции о находке не знает, тем более, начальник предупредил, чтоб все осталось в тайне, однако информация каким-то образом вылезла наружу (скорее всего, через радиста, отправлявшего радиограммы), и ночью на берег пришли несколько наших и питерских геологов. Они много спрашивали о мамонте, и я не мог отказать им, взяв с них обещание о полном молчании. Они помогали таскать с речки воду и мыть мамонта, после чего сфотографировались возле него, попросили разрешения выщипнуть по маленькой прядке шерсти для талисманов, еще часа два гоняли палками песцов и ушли под утро.
И как только ушли, стая, разросшаяся до сотни, с визгом, воем и лаем устремилась к туше, не взирая даже на работающий бульдозер.
Наиболее смелые подскакивали вплотную, и мне пришлось стрелять этих мелких, но прожорливых и довольно злобных тварей - они огрызались, скалились на меня и даже пытались укусить. В принципе, их всех можно было перебить, но срабатывала крестьянско-охотничья натура, жалко портить, шкурка-то летом никуда не годится.
Часов до восьми я отбивал атаку за атакой, пока нахватавшиеся дроби песцы не отступили к краю вскрыши. Трех застреленных выбросил из ямы, их тут же разорвали на куски и съели. Днем их пыл поубавился, я залез в кабину бульдозера и стал дремать, время от времени постреливая для острастки. К обеду ученые не прилетели, я связался по рации с начальником экспедиции и получил недовольный ответ, мол, сами ждем сигнала, вертолет стоит в Хатанге с запущенным двигателем.
Как на зло, дни стояли теплые, мерзлота отходила быстро, на месте вскрыши образовывался уже небольшой овраг и туша не только вытаяла окончательно, а еще и разморозилась и к вечеру слегка расплылась.
Мамонт лежал на твердой, голой, без всяких растительных остатков, почве и даже растаявшая, она оставалась плотной, то есть, это была та поверхность земли, на которой он жил, по которой ходил, и, видимо, умер от бескормицы, когда наступила долгая ледниковая зима.
Прямо передо мной открылась такая древняя эпоха, что от одной мысли холодило затылок! Я мог протянуть руку, по крайней мере, на двадцать тысяч лет назад и не только увидеть, а коснуться далекого прошлого, пощупать его, ибо глаза никак не могли привыкнуть к такому чуду.
Теперь не помню, дремал я, сидя в тракторе, или все было наяву, но я до мельчайших деталей видел картины доледниковой эпохи - все, от стад мамонтов до растений, в то время бывших на Таймыре. Причем мог тут же нарисовать (и рисовал потом) ландшафт с горами, озерами и широколиственными лесами - все до форм и видов деревьев, трав и даже семени.
Отмытый мамонт и в самом деле лежал как живой и когда я начинал долго смотреть ему в область полуприкрытого глаза (второй был внизу, у земли), мне казалось, что он просто спит, вернее, просыпается: вот дрогнуло веко, чуть собралась шкура возле уха, качнулся белый бивень...
Страшно до озноба и любопытно одновременно! И безудержная фантазия - ну как, согретый солнцем, оживет? Бывают же чудеса!...
Но чуда в этот раз не случилось, ученые к вечеру не прилетели, а ночью прибежали шестеро горняков-бичей, сказали, пришли на выстрелы, узнать в чем дело, а сами сгорали от любопытства и спрашивали, годится ли мамонт в пищу. К туше я никого не подпустил, разрешил посмотреть с края оврага, и они стояли минут десять вместе с песцами, вызвались в помощники и потом ушли. К утру из поселка притрусила собака, тут же была атакована песцами и сбежала, поджав хвост, но спустя час привела с собой всю свору и завязалась крупная драка. Лохматые ездовые лайки оказались песцам не по зубам, однако бились они насмерть, бросаясь десятками на каждую. Полчаса стоял рев, рык, визг, ни те, ни другие на выстрелы поверх голов не реагировали и в результате песцы отступили, оставив задушенных сородичей и сдавая собакам довольно обширный сектор. Те сразу успокоились и устремили свое внимание к туше. Я знал всех экспедиционных собак, надеюсь, и они меня знали, однако окрики по кличкам не действовали, пришлось стрелять под моги. На какое-то время они залегли среди земляных валов и лишь поскуливали.
Между тем снова кончались патроны, и я сел на рацию, но выяснилось, что начальник срочно вылетел в Хатангу, будто бы встречать ученых. Я попросил, чтоб привезли побольше дров и солярки, надеясь отгонять зверье огнем - бульдозер дорабатывал остатки топлива, а слить его с экскаватора мне не удалось, впрочем, как и запустить двигатель.
Часа через полтора из поселка пришел ГТТ с бочкой горючки, а вместо дров привезли человек пятнадцать любопытствующих (даже две поварихи приехали), которые выгрузились и остались на берегу (вездеход ушел на буровую). С народом было труднее, чем с песцами и собаками, уговаривал, просил, спорил до хрипоты, поскольку каждый хотел не просто посмотреть, а и пощупать руками. Да не просто пощупать - вырвать клок шерсти на талисман или сувенир.
И поголовно всех волновал полушутливый и навязчивый вопрос - можно ли есть мясо? И как бы так сделать, чтоб пока не приехали ученые, вырезать маленький кусочек, сварить и попробовать? До полудня я воевал с людьми, которых всегда считал нормальными и даже симпатичными, и которые при виде пищи сделались одержимыми, как песцы.
Наконец, в небе на низкой высоте показался вертолет, и я вздохнул облегченно - летят! Машина опустилась на берег, заставив порскнуть зверье в разные стороны, однако вышли пограничники с автоматами и подошли к яме разобраться, что здесь происходит. Не знаю, память ли далеких предков мгновенно просыпалась в людях, возбуждая воспоминания пещерного периода, или у этой страсти была иная природа, но и стражей границ интересовали те же самые вопросы, и они так же хотели нащипать шерсти, покушать мяса, словно вдруг все оголодали!
Кое-как отбился и от них, правда, офицер все равно подошел к мамонту, выдернул клочок и пообещал, что за это покружит и погоняет песцов.
Едва пограничники улетели, как скопом навалилась толпа, мол, чужим разрешил, а нам нет? Ну и пошло-поехало, до матюгов, поварихи назвали меня самого мамонтом, и это прозвище приклеилось надолго, пока не уехал с Таймыра. На мое счастье скоро с буровой вернулся вездеход, однако четверо молодых ребят все-таки остались, потеснили собак и расселись на валу.
Очередную ночь я ждал с ужасом, поскольку практически не спал четвертые сутки и валился с ног. Оставшиеся парни видели мое состояние и обещали, что будут охранять тушу, жечь ветошь с соляркой и отстреливаться от зверей, дескать, ты ружье с патронами отдай, а сам ложись спать. Я уже никому не верил, разрешил им развести и поддерживать костры, сам же подстелил спальный мешок и сел на мамонта.
Добровольцы в самом деле спустили топливо с экскаватора, собрали тряпье и зажгли четыре коптящих факела. Только для песцов и, тем паче, собак это были мертвому припарки. Солнце не заходило, огонь не давал нужного эффекта, и с началом ночи все зверье стало подтягиваться к валу.
И только сейчас, сидя на туше, я принюхался и понял, что его привлекало: вероятно, мамонт после гибели еще какое-то время лежал в тепле и подпортился еще двадцать тысяч лет назад. Теперь же оттаял и стал источать запах гниения, который тонкий звериный нюх уловил сразу же и за много километров. Вывозить уникальную находку нужно было немедленно и срочно замораживать либо обрабатывать жидким азотом здесь, на месте.
Я связался с поселком, и радист сказал, что начальника до сих пор нет, находится он уже в Красноярске и вернется не раньше завтрашнего полудня и вроде бы вместе с учеными. До шести утра пришлось отстреливаться от зверья и больше - от собак, которых запах подтухшего мяса буквально сводил с ума. Парни тоже отмахивались факелами, плескали соляркой, и норовили подойти к туше, хотя я объяснил им, что мясо тухлое, наверняка с трупным ядом и есть его нельзя. Они посмеивались, шутили, пока одного из них не покусала собака. Потом забились в кабину экскаватора и вроде бы уснули. Я тоже начал дремать, сидя на туше, и уснул бы, но в какой-то миг почувствовал за спиной движение и открыл глаза. Солнце висело низко и длинная, колеблющаяся тень двигалась ко мне сзади, к голове мамонта. Я резко вскочил и обернулся: один из парней уже держался за бивень и прицеливался ножовкой по металлу, второй только подходил, и, когда выстрел вверх громыхнул в утреннем воздухе, никто даже не дрогнул.
- Ты же не будешь в нас стрелять, - хладнокровно сказал тот, что собирался пилить. - Это же срок.
Второй ствол я разрядил у него над макушкой и тут же вложил новые патроны. Парень отскочил, бросив ножовку, затряс головой, и еще один заряд ударил ему под ноги. Добровольные помощники отбежали к экскаватору, поорали, поматерились от страха, двое подались в поселок, а оставшиеся двое залезли в кабину.
Весь последующий день просидел в напряжении и ожидании, вонь уже стояла такая, что вылезти из трактора было невозможно, я нюхал солярку, чтоб перебить запах. Мамонт, пролежавший в вечной мерзлоте двадцать тысяч лет (а может и больше), едва оказавшись на поверхности, на воздухе, под солнцем, начал стремительно разлагаться и вздувался на глазах. К вечеру прилетел начальник экспедиции, один, злой и резкий, распорядился по радио поплотнее накрыть тушу, засыпать землей (что нужно было сделать сразу же!) и возвращаться в поселок. Я поправил брезент, натянул на голову палатку и два часа утюжил тундру вокруг, сгребая бульдозерной лопатой мох, камни и жидкую грязь. И когда насыпал невысокий курган, подумалось, что теперь это могила.
Разозленные "помощники" удалились, и мне бы следовало уйти в поселок и выспаться, только не было сил, я заглушил трактор и под вой и лай песцов уснул в кабине.
А они рыли всю ночь, почти бок о бок со своими врагами - собаками. Я поднимал тяжелую голову, и, чудилось, снится кошмар: курган шевелился, как живой, грязные, мокрые зверьки напоминали насекомых из фильма ужасов.
Потом к ним присоединились люди, и мне кажется, это уже был не сон.
И все-таки всем вместе им мало было ночи, хотя в некоторых местах уже показался брезент. Солнце не заходило круглыми сутками, однако звери, собаки и люди по единому закону ночных хищников на день разбегались, прятались или наблюдали издалека. Я запустил двигатель, восстановил курган, заперся в кабине и опять уснул, на сей раз так крепко, что ничего не видел и не слышал. Когда же встал, вся задняя часть мамонта оказалась раскопанной, кто-то очень аккуратно выщипал всю шерсть, которая и так уже лезла, и вырубил большой кусок мяса из ляжки.
Закапывать снова не имело смысла, впрочем, как и продолжать войну. Побродив вокруг, думал уже уйти в поселок, однако на горизонте показался вездеход начальника.
Он всегда был человеком властным, конкретным, бескомпромиссным, как все начальники экспедиций в Арктике. Сейчас же приехал какой-то серый, задумчивый и рассеянный, молча прошелся вокруг полураскопанного кургана, долго смотрел в рану, оставленную топором, после чего сунул лопату своему водителю.
- Копай.
Тот знал, что делать, завязал нос и рот платком и сразу принялся разрывать голову мамонта.
Мы отошли в сторону и встали на ветер, чтоб не чуять запаха. В экспедиции существовал железный сухой закон, однако начальник достал солдатскую фляжку со спиртом, налил в два стакана.
- А где ученые? - спросил я.
- Лето. Все в отпуске, на побережьях теплых морей.
Выпили не чокаясь, как на поминках.
Водитель сделал раскоп, принес пилу, топор и как-то очень уж профессионально стал вынимать бивни - с корнями. Возился долго, и когда достал оба, снес на реку, отмыл и положил перед начальником, как жертву перед идолом.
Тот молча взял один и бросил мне в руки.
- Это тебе, на память.
Поднял другой и пошел в вездеход.
- А что теперь с мамонтом делать? - спросил его вслед.
- Ничего, пусть звери едят. Все польза...
Танкетка рыкнула, поползла вперед и через несколько метров вдруг дала задний ход. Я закинул рюкзак, ружье и залез под брезент с бивнем на руках. Через минуту ко мне забрался начальник экспедиции, сел рядом.
- Жалко мамонта, - сказал я. - Совсем целый был...
- Это был труп, - вдруг с прежней, привычной жесткостью бросил он. - Мы с тобой - мамонты.
***
Женщины, как и положено, варили мясо, причем сразу в двух ведрах, повешенных над костром: кипятили в одной воде, сливали, после чего набирали свежую - вонь все равно стояла на весь поселок. Мужчины сидели и стояли плотным кругом, курили и ждали. Когда мамонтина сварилась, ее вывалили на стол и началась трапеза. Попробовать пришли все, кто был в то время на базе, отрезали по маленькому кусочку, зажимали носы, морщились, клали в рот, жевали и глотали, будто горькое лекарство. Я смотрел на все это сначала с отвращением, потом ощутил непроизвольно желание тоже подойти к столу и взять кусок. Стоял и боролся сам с собой, пока кто-то в толпе не обронил со знанием дела:
- Похоже на человечину.
Чем сразу отбил всякую охоту.
Спустя десять дней, когда из ямы растащили даже обглоданные кости, из полевого отряда приехал Толя Стрельников. Он уже был наслышан о событиях в поселке и сразу спросил:
- Ты ел?
- Нет, - признался я. - Не смог одолеть себя.
- А зря! Жалко, не успел! Я бы обязательно наелся мамонтины до отвала!
- Зачем?!...
- Ты что, не знаешь? - изумился однополчанин. - Никогда не слышал? Мясо мамонта содержало ферменты, которые сгущали жидкий мозг.
Оно способствовало образованию коры и подкорки! А значит, пробуждению разума! Мамонты сотворили человека разумного!
Вообще у Толика подобных сентенций было достаточно, начиная с рыбы валек, которая будто бы есть на Таймыре, поэтому я ему давно не верил, однако сейчас, помня, с какой страстью звери и люди рвались вкусить мамонтины, готов был поверить. Только в этом случае получалось, что мозг у человечества снова стал жидким...
***
Замена так и не приехала, поскольку разведали первый участок и заговорили о свертывании экспедиции. Сначала прекратили полевые работы, затем остановили буровые, и мы около месяца вообще болтались без дела, в основном, ловили ленков и хариусов в речках, больше из спортивного интереса. Однажды как-то сошлись на рыбалке с начальником топографического отряда Володей Летягиным, тихим каким-то, невзрачным и невыразительным, но весьма образованным парнем. Еще до начала поисковых и разведочных работ он делал съемку всего кратера и один из немногих знал его отлично (это круглая воронка, с внутренним диаметром в семьдесят и внешним в сто километров, сильно растертая ледником, изрезанная речками и покрытая множеством озер, от названий которых язык сломаешь - Балганаах Кирикитте, например). А сошлись мы на речке с редкостным для здешним мест русским именем Рассоха, поговорили, кто куда поедет, когда закроют экспедицию, какие-то рыбацкие истории рассказали друг другу, и неожиданно Володя смотал удочку и сказал:
- А поехали завтра на Валек? ГТСку возьмем и сгоняем. Может, там валек подошел, так постреляем.
Долго смотрел на меня, пока не сообразил, что требуется перевод всего сказанного.
- Да тут речка такая есть, Валек, - объяснил он со слоновьим спокойствием. - Полета километров на восток. А там редкостная рыба - валек. Только она на удочку не клюет, наживки не подобрать. Но когда стоит на отмели, можно стрелять из винтовки. У тебя винтовка есть?
Я даже не слыхал об этой речке. Режим секретности был таким, что даже обзорной карты всего кратера не показывали, мы получали лишь те листы, в рамках которых работали и до восточной части никогда не добирались.
Ничего больше не спрашивая, я побежал за Володей вприпрыжку. На следующий день мы взяли тягач и рванули по тундре строго на восток. Я молчал, как рыба, не выдавая своих чувств. Такой серьезный человек, как Летягин, дурить головы людям не мог, это не романтичный авантюрист Стрельников, заманивший на Таймыр.
Но ведь тоже не обманул! И если так, то и человечество родилось благодаря тому, что употребляло в пищу мясо мамонтов.
А о золотой рыбке знал не только мой дед - существовала на Земле даже одноименная река!
Понятно, что топограф валька уже ловил, вспарывал, жарил или варил уху, но почему ничего не говорит о золоте? Всякий соображающий рыбак непременно вскроет желудок, чтоб посмотреть, чем питается рыба и какую наживку использовать. А Володя был рыбак настоящий и уж никак не мог не заметить неестественную тяжесть валька...
Речка оказалась совсем маленькой, три метра ширины, каменистой, но с равнинным характером, тихо журчала между низких бережков и на первый взгляд казалась безрыбной. Даже более полноводные реки на Таймыре зимой промерзали до дна, всякое течение останавливалось до таяния снегов, значит, валек или успевал спускаться в глубокие озера, или попросту вмерзал в лед до весны.
Мы осторожно прошли вдоль берега около полукилометра и топограф сделав знак, поднял винтовку. Я не успел увидеть стоящую у дна рыбу, когда щелкнул выстрел и Володя, прыгнув в воду, вытащил первого валька.
Размером он действительно был около сорока сантиметров, почти круглой формы с небольшой головкой и маленьким ртом. Я взвесил рыбу в руке, но, даже не потроша, понял, что в брюшке ничего нет, по крайней мере, горсти золота уж точно.
Свинцовая пуля пробила хребет навылет, так что и от нее веса не прибавилось.
Однако достал нож и вспоров, вынул потроха...
Если это был валек, то он только плыл из океанских глубин к золотым россыпям и не нашел еще ни одного самородка, впрочем, как и пищи, поскольку желудок тоже оказался пустым.
Надежды еще были, но мысленные; в душе я уже верил, что это на самом деле валек, но обещанного дедом золота не будет, поскольку на территории кратера не зафиксировано ни единого проявления этого металла. Но даже если питерские геологи (они начинали исследования кратера несколько лет назад) его просмотрели, не обнаружили, то все равно на кой же ляд этой рыбе забираться в речку, вытекающую просто из болотистой тундры, где под мхом вечная мерзлота?
А по свидетельству деда, она идет только туда, где есть золото. И ловится там же...
Володя отстрелял еще двух рыб и стал ломать сухую лиственницу для костра, чтоб сварить уху. Я почистил и выпотрошил вальков, проверил, уже без всякой надежды, содержимое желудков, и пока закипал котелок, взял винтовку и прошел вдоль реки. Окраска у этих "золотых рыбок" была сероватая, с серебристыми разводами вдоль брюха, и потому различить их в воде было очень трудно. Первого валька я принял за деревяшку, лежащую на дне и спугнул, но второго "узнал". Он стоял против течения неподвижно, будто оцепенел и лишь чуть шевелил плавниками.
В момент выстрела мне показалось, будто что-то желтовато сверкнуло в воде, однако это был лишь солнечный блик на фонтане, выбитым пулей...
Солнечный удар
В день возвращения с Таймыра закончилась юность, по крайней мере, необузданная мечтательность и беспредельные надежды. В принципе, мог я остаться в Хатанге, уехать в Норильск или в бухту Нордвик, где стоял одноименный мертвый город и где была работа; мог найти место в одной из экспедиций Красноярского геологоуправления, наконец, поехать в Мотыгино, в Ангарскую экспедицию, где был на практике. Полевики требовались везде, была бы только шея, однако уезжал с Таймыра, будто побитый: рыба валек действительно существовала, только пустая, без самородков, и годилась разве что для ухи...
Оставался чистым, правдивым и непорочным один Гой, которого я видел собственными глазами, но и он отдалился вместе с горой и постепенно превратился если не в сказку, то в быль.
Я вернулся в Томск, поскольку больше ехать было некуда, а с этим городом связывало ностальгическое прошлое, оставшиеся друзья, отец, бабушка и братья, живущие в области, и, наконец, учеба в университете.
Была поздняя осень, бесконечные дожди и бесприютность. По старой памяти две ночи переночевал в общаге техникума, но тут была новая комендантша, попросившая меня освободить помещение - с севера приехал, боялась, пьянку устрою со студентами. Потом заглянул к родителям Надежды - девушки, которая не дождалась меня и теперь жила в Киргизии, поговорили, повспоминали, оказывается, у Нади дочка родилась, Полинка, но личная жизнь что-то не клеится. В общем, я у них переночевал и утром ушел с полной уверенностью, что никогда сюда не вернусь - оказывается, в душе не отболело. Еще одну ночь провел у друга, жена которого намекнула, что живут они в страшной тесноте да еще ребенка ждут. В общем, я оказался на улице, точнее, на вокзале. Путь вырисовывался определенный - пусть даже на время, но вернуться к отцу, в Зырянское, то есть, прийти туда, откуда ушел.
В Томске было несколько экспедиций, и работа, даже с пропиской и жильем, там бы нашлась, но большинство их занималось поисками нефти и газа, что меня вообще не интересовало, в геологосъемочную партию тоже не тянуло, там работали на четвертичке, или грубо говоря, ползали по песку и глине. Пока слонялся по городу, стараясь понять, что хочу, совершенно случайно, по объявлению на заборе, нашел и купил то, о чем когда-то мечтал - новенький мотоцикл "Урал". Деньги были, и, как говорят, жгли ляжку. В тот же день я собрался съездить к отцу, пока будто бы в отпуск, ну и похлестаться, дескать, у меня все отлично, смотри, на "Урале" катаюсь, есть ружье - пятизарядна, приемник "Океан" и даже магнитофон (все имущество носил с собой в рюкзаке, девать было некуда). А самое дорогое - свежий бивень мамонта, который ценится по весу золота, и можно сказать, я вожу с собой целое состояние.
Отец к геологии относился настороженно, говорил, там одна бродяжня работает, да сибулонцы.
И еще съездить в родные места, на свою речку, к могилам матушки и деда...
Но тут вспомнил - не встал на партийный учет, а надо сделать это в течение пяти дней, и сегодня - последний. (В партию нас принимали за раз целыми отделениями в армии, ведь ЦК КПСС охраняли!) Пришел в райком, а там говорят, не можем поставить, прописки нет, работы нет, но выход есть - иди в милицию, ты же служил в таком месте! С Брежневым чуть ли не каждое утро за руку здоровался. Откровенно сказать, милицию я недолюбливал с юности, после массовых драк между общагами геологов и автодорожников даже в каталажке просидел целую ночь.
А тут милицейские погоны надеть!
Думал, формальность, отбрешусь, но там сразу же взяли за жабры и я понял, как правы были вербовщики в ОМСБОНе, кузнице кадров. Мне обещали сразу все - звание лейтенанта, должность в уголовном розыске, оклад и пока что - отдельную комнату в общежитии. И времени на раздумья дали два часа. Я вышел из красивого, с колоннами, здания, охраняемого милицейскими постами, и обнаружил, что из коляски мотоцикла украли имущество, которым я гордился - любимую пятизарядку, приемник, магнитофон, фотоаппарат, бинокль, вещи для походного человека драгоценные, и все мое состояние, то есть бивень мамонта.
Не думаю, что это сделали специально, вынуждали таким образом идти на работу в милицию; это была случайность, но роковая. Пожалуй, впервые я задумался, а почему так происходит? Зачем в трех шагах от Манараги встретился однополчанин и сманил на Таймыр, что ничего, кроме разочарования, не принесло?
Теперь судьба привела в уголовный розыск, и что же ждать от этого?
Геолого-географический факультет я в тот же год оставил и поступил снова, теперь на юридический, вместо комнаты мне дали кладовую без окошка, камеру в шесть квадратных метров, в доме, заселенном криминальным, пьяным элементом - рассчитывали, что я попутно буду усмирять поножовщину, возникающую чуть ли не каждую ночь.
Целыми днями выслеживал и отлавливал преступников (в уголовке райотдела диапазон дел у оперативников колебался от украденных штанов до тройного убийства), а к ночи возвращался в свою камеру и зубрил предметы по юриспруденции, с ужасом понимая, что все это совсем не мое и к будущему не имеет никакого отношения. Вопрос, зачем все это, я задавал себе чуть ли не каждый день и тихо свирепел.
И вот к концу второго года работы, в промозглый, октябрьский день я занимался делом о разбойном нападении и допоздна выдергивал с адресов и допрашивал банду ПТУшников. В третьем часу ночи посадил в клетку последнего и хотел поспать на стульях в кабинете, потому что идти в холодную клетушку по дождю не хотелось, и когда ключник запирал камеру, из ее полумрака вдруг почувствовал взгляд человеческих глаз, невероятно знакомых, можно сказать, родных - так мне показалось в тот миг.
Я вернулся к "обезьяннику" и сквозь решетку увидел Гоя! В том образе, который приснился мне на Таймыре - седовласый старик с птичьим взором.
Было ощущение, что и он узнал меня, потому что смотрел пристально, не мигая и чуть исподлобья, не обращая ни на кого внимания - взгляд Гоя!
Я спросил у дежурного, за кем он записан, но оказалось, старик сидит "бесхозным", то есть, с ним еще никто не работал и завтра начальник распишет, кому заниматься этим задержанным, скорее всего, сдадут в психушку или в КГБ. Его притащил с речного вокзала начальник ПМГ Бурак, задержал за бродяжничество, документов, естественно, не было никаких, задержанный назвался фамилией Бояринов, однако при личном досмотре обнаружили непонятные записи цифрами в столбик и с латинскими буквами - что-то вроде шифровки (на самом деле - записанные шахматные партии, и дежурный сразу это понял), а также полкаравая ржаного хлеба, испеченного на поду, судя по золе, русской печи, матерчатый мешочек с серым веществом, похожим на соль, и пластмассовую коробочку с землей красноватого цвета.
Так было написано в рапорте дотошного сержанта Бурака, который давно просился в уголовный розыск и всегда показывал свою криминалистическую сметливость и наблюдательность. (Некоторые мудрые бродяги делали так: чтоб не попадать в руки к опостылевшим и злым милиционерам, но отдохнуть несколько зимних месяцев в тепле и сытости, собирали на свалках возле студенческих общежитии какие-нибудь технические чертежи и фотопленки, зашивали в одежду и таким образом попадали к интеллигентным комитетчикам, которым тоже надо было делать вид, что работают.) В общем, клиент был не наш, а скорее всего, специфического лечебного учреждения, и пока его не передали, надо было вытаскивать Гоя любыми путями.
А то, что это он, я не сомневался - соль!
На смене был Ромка Казаков, старый, уставший от милицейской суеты опер, сидевший теперь в дежурной части, он должен был понять рвение молодого бойца. Я шепнул ему на ухо, мол, дай-ка деда, я с ним поработаю, то есть, проверю на предмет информационной полезности.
Бродяги - народ пронырливый, наблюдательный и вездесущий, добрая их половина сотрудничала с милицией и ею же подкармливалась. Ромка возражать не стал, однако, как опытный практик, особого энтузиазма не проявил, дескать, у старика голова явно не в форме, даже если и будет от него польза, начальство воспротивится, дураков среди доверенных лиц и так хватает. Но вещи задержанного отдал и велел сержанту отвести его ко мне, мол, паши, трудись, рой копытом землю, молодой...
В кабинете я осмотрел вещи задержанного, с точки зрения геолога поворошил красноватый суглинок в коробочке, как крестьянин оглядел почти свежую и душистую половинку хлебного каравая, и наконец, дрожащими руками развязал мешочек.
И в тот же миг пахнуло детством: кристаллики соли были прекраснее самых больших алмазов. От внезапного желания съесть хотя бы один, слюна потекла и во рту стало солоно, однако в этот момент сержант привел задержанного Бояринова, пришлось напустить равнодушный вид, но показалось, этот человек с острым, птичьим взором сразу же заметил мое состояние и как-то криво ухмыльнулся.
Я запер двойную дверь на ключ и вдруг ощутил растерянность.
Меня научили, с чего начинать и как вести разговор с кандидатом в доверенные лица и агенты, по каким признакам определять его психическое и психологическое состояние, истинное социальное положение, определять круг знакомых и потенциальные возможности, и это у меня получалось совсем не плохо. За два года работы я хорошо освоил методику допроса, умел задавать каверзные, с двойным дном, вопросы, расставлять словесные ловушки и уличать во лжи, однако я не собирался ни вербовать Гоя, ни допрашивать его, и теперь не знал, что говорить.
На языке да и в голове вертелась единственная мысль - вот так встреча!
Стоял перед ним, смотрел в крепкое, сильное и совсем не старое лицо и чувствовал, что так и простою. Он тоже молчал и, казалось, был совершенно равнодушен к собственной судьбе, и если поглядывал на меня, то как всякий бродяга на мента - со скрытым, спокойным презрением.
Наконец, я справился с замешательством, сложил в котомку вещички, в том числе простенький блокнот, в котором Бурак обнаружил "шифровки", и отдал Гою.
- Через некоторое время выведу из отдела и уходи.
Он вскинул свой орлиный взор.
- Отпускаешь меня на свободу?
- Отпускаю.
- Это похоже на благодарность... А за что?
- Наверное, не помнишь меня, но я тебя узнал. В детстве ты дал мне соль и завернул в шкуру красного быка...
Гой на миг оживился, распрямились суровые брови, однако через секунду обвял.
- Нет, не помню... Я многим изгоям давал соль, и многих заворачивал в шкуры...
- Еще ты долго разговаривал с моим дедом и назвал ему срок смерти, - напомнил я, но заметил, что это не производит никакого эффекта.
- Время уходит, старею....
- А я тебя потом долго искал и ждал. - признался я. - На Змеиную Горку ходил, на Божье озеро...
- Куда ходил? - воспрянул Гой. - На Божье озеро?
- Мне дед сказал, ты можешь там появиться или даже перезимовать.
- Скажи-ка мне, где я сейчас нахожусь? - после долгой паузы как-то несмело и стыдливо спросил он, чем окончательно меня обескуражил.
- В милиции...
- Нет, как называется это место?
- Город Томск.
- Города появляются и исчезают. Ты мне скажи, какая здесь река?
- Томь... - у меня проскочила мысль, что Ромка Казаков, возможно, прав, у этого человека напряженка с головой.
- Погоди... Томь, Томь... Она куда впадает?
- В реку Обь.
- В Обь? - искренне изумился Гой, но с его орлиными глазами это получилось гневно. - Это что, я пришел на Обь?
- До Оби тут недалеко...
Он ссутулился, некоторое время гладил бороду и наконец сказал со вздохом:
- Ну вот, опять сюда занесло... И уже не первый раз. Понимаешь, с пути сбился, хожу, хожу, места узнать не могу. - Он улыбнулся, показывая из-под усов молодые, белые зубы. - Старый стал, слепну, а чудится, на Земле темнеет. Пора бы на покой. Вот схожу в последний раз и скажу владыке, чтоб отпустил... Ведь стыд и срам - дорогу в сумерках потерял!
Поверить, что этот человек с пристальным птичьим взором слепой, было невозможно, кажется, он видел все вокруг, и даже у себя за спиной. Но возразить я не мог, а точнее, не смел, поскольку сидел оглушенный, мысли качались, будто маятник: то казалось, разговариваю с сумасшедшим и сам схожу с ума, то вдруг явственно ощущал, что прикасаюсь к великому таинству и надо остановить или продлить мгновение.
Видимо, он и колебания мои узрел.
- Говоришь, узнал меня? - вдруг спросил строго.
- Узнал, но только по глазам, лица не запомнил...
- И я давал тебе соль?
- Давал...
- Ну и как, горькая была?
- Нет, я до сих пор помню ее вкус.
- Что же ты мечешься?
- Не знаю... Слишком неожиданная встреча.
- Почему неожиданная? - усмехнулся он. - Разве ты не искал меня?
Не ждал?... Нет, ты стал изгоем, как все повзрослевшие дети.
В этот миг для меня неожиданно открылось это слово - ИЗГОЙ, о смысле которого я не задумывался никогда, а точнее, воспринимал его таким, каким предлагал современный язык - изгнанный, униженный человек.
ИЗГОЙ - ИЗ ГОЕВ, то есть, бывший ГОЙ, человек, вышедший из этого племени и утративший с ним связь!
Первой мыслью было спросить его об этом, но я перехватил его острый, неприятный взгляд, будто выставленный передо мной барьер.
Задавать вопросы отпала всякая охота, но одновременно как-то отвлеченно и подспудно я жалел, что теряю время, что это единственная уникальная возможность расспросить его обо всем - о Манараге, в первую очередь, о женщине по имени Карна и реке Ура, обо всем, что не давало мне покоя с детства.
Может, впервые я повиновался року, выдержал, преодолел страстное любопытство и, успокоенный, натянул плащ, проверил, заперт ли сейф и открыл входную дверь.
- Значит, лес там вырубили? - неожиданно спросил Гой.
- Где? - я не мог сразу сообразить, о чем он спрашивает.
- Да там, куда ты ходил меня искать.
- Вырубили. - Я вспомнил о древнем боре на Божьем озере. - И выход карчами затянуло, замыло, теперь вода высокая стоит все лето, вровень с берегами.
- А остров плавает?
Плавучим островом называли часть торфянистого берега, далеко выдающегося в озеро. Говорили, в незапамятные времена часть суши вместе с лесом оторвалась и много лет курсировала из одного конца озера в другой, словно корабль под парусами. Матушка показывала мне этот бывший остров, но не пускала на него, поскольку он считался зыбким и гиблым, даже самые отважные мужики не смели ходить, а там росла крупная бордовая княженика, на которую я мог смотреть только издалека. И вот когда я в одиночку пошел на Божье, то в первую очередь забрался на остров и наелся княженики.
- Нет, остров давно прирос к берегу, - объяснил я.
- Жаль, - обронил он и вдруг сел. - В самые свои лучшие годы я там жил с моей Валкарией. Она еще была молода и прекрасна, мы плыли на острове, ели ягоды, а кругом сосны шумели... Сколько же лет минуло?
Кажется, целый век, а то и больше...
Гой замолк и взор его птичий неожиданно потускнел.
- Валкария, твоя жена? - спросил я, чтоб отвлечь его, но он не услышал, погруженный в воспоминания.
- С тех пор меня все время тянет сюда, на Обь, а приду - не узнаю мест... Но все, пришла пора на покой, надо возвращаться домой. - Он достал мешочек, долго, по-стариковски, развязывал его, затем придирчиво заглянул внутрь. - И мне пора прирастать к берегу... А хочешь еще раз соли вкусить?
- Хочу...
- Подставляй руку.
Он сыпнул мне совсем маленькую щепоть, сероватые кристаллики лишь чуть запорошили углубление в ладони. Я смел их в кучку и забросил в рот, как таблетку.
И будто горящий уголь хватанул! Горечь оказалась настолько сильной, что опалило язык и в следующий миг меня чуть не вырвало. Я попытался выплюнуть эту гадость в урну, но не тут-то было, соль растаяла мгновенно.
Была мысль схватить графин и прополоскать рот водой, но Гой в этот момент завязывал мешочек и все видел. Видно, там действительно находилась какая-то химия, потому что я отлично помнил винный аромат той соли, которую он давал мне в детстве. Или она помогала и была приятна только больным и страждущим?
Полость рта, язык и гортань онемели, и это как-то спасло от рвоты. Отворачиваясь, я сглатывал слюну и чувствовал, как эта огненная горечь всасывается в кровь. Гой наблюдал за мной, хотя тоже делал вид, что собирается. Мы вышли в коридор, я запер дверь, хотел сказать ему, чтоб шел вперед, но понял, что потерявший чувствительность язык не слушается.
Проходя мимо дежурки, махнул Ромке Казакову, мол, забираю с собой, тот показал руками крест. Это означало, что в журнале будет написано - с задержанным разобрались, отпущен.
Я не знал, как следует прощаться с Гоем, поэтому отвел его подальше от отдела и показал вдоль улицы.
- Мне туда, - вымучил неповоротливым языком.
- Если туда - иди, - разрешил он. - А что соль? Горькая?
- Горькая...
- Потому что ты изгой. - Он пошел в обратную моему направлению сторону. - Зато больше никогда не попросишь! И другим скажешь, чтоб не искали...
Показалось, он еще что-то сказал, но из-за шороха дождя я не расслышал, переспросил - Гой глянул через плечо, махнул котомкой.
- Иди! Иди! Чего встал?
Так мы и разошлись.
***
В то утро я проспал на работу, поскольку прибрел домой лишь в пять, однако на удивление в хорошем настроении - даже не спросив ни о чем Гоя, мне почему-то все казалось понятным, ничто не мучило, не отягощало и даже остатки тошнотного вкуса соли как-то незаметно рассосались и пропали. На работу я мог прийти позже часа на три-четыре, поскольку работал ночью, но за мной приехал начальник уголовки Петр Петрович, сокращенно, ПП, в дверь кулаком застучал, и когда я открыл, у него очки на носу подпрыгивали - признак крайнего возбуждения.
- Быстро собирайся, поехали!
Думал, опять убийство на моей земле и очередной аврал, но в машине ПП на меня волком глянул.
- Где Бояринов?
Эта протокольная фамилия в голове у меня не отложилась, я помнил и знал лишь Гоя и потому спросил, кто :кто такой.
- Бродяга с речвокзала! Где?!
- Отпустил...
Он не дал договорить.
- Кто тебя просил соваться?! Ну кто?
От возмущения и злости он даже говоритъ не мог, сверкнул очками, отвернулся.
- Ладно, сам будешь отвечать.
Он бы мог сдать меня с потрохами, чтоб самому не влетело, однако у ПП оказалось сильным корпоративное чувство, да и потом, он мужиком был порядочным. Когда подъезжали, намекнул, каким образом будут меня спасать и как я должен оправдываться.
- Молодой, опыта мало... Хотел провести вербовку... Он согласился на сотрудничество, дал информацию по Кудельнику. Фамилию запомни. Рапорт на мое имя сейчас же... Кудельника утром взяли на адресе...
Я и представления не имел, кто такой Кудельник...
Особого переполоха в отделе было не заметно, разве что отдежуривший Ромка Казаков почему-то все еще торчал в коридоре, как посетитель. ПП затащил меня сначала в свой кабинет, где я настрочил несколько необходимых бумаг, а потом повел к начальнику отдела, у которого оказалось два подполковника из нашего управления, занимающиеся оперативной работой, и трое в гражданском, по интеллигентным повадкам, комитетчики.
Спрашивали они тихо, ласково, почти без эмоций, интересовались в основном процессом вербовки, которого не было, намерениями Бояринова и условиями следующей встречи.
Благодаря инструкциям ПП, я на ходу сочинил легенду с подробностями, деталями и психологическими нюансами. И с тех пор поверил в силу мелкой, незначительной, но точной детали: опытные, в возрасте, оперативники КГБ мне поверили и вечером в "назначенный" час пошли со мной на "встречу" с Ангелом, - такую кличку я будто бы присвоил вновь завербованному "доверенному лицу".
Как и следовало ожидать, новобранец тайных дел на встречу с резидентом "не явился". По всем правилам конспиративной работы я сводил их еще раз, на запасное место - Бояринов опять "не пришел".
И по телефону мне "не звонил"...
Через несколько дней меня вызвали в кадры, подполковник, уговоривший когда-то пойти на работу в милицию, полистал личное дело, зацепился взглядом за что-то и спросил, где живет отец.
- В Зырянском, - сказал я.
- Вот туда и поедешь!
А комитетчики еще дважды интересовались судьбой Бояринова и даже ко мне в ссылку приезжали. Чем их так увлек мой Гой, я долго не знал, в его шпионство не верил. Наконец, через полгода ссылки ПП начал процесс моего возвращения в город (это ему не удалось, я уже задумал увольняться), и рассказал за бутылочкой, что КГБ уже лет двадцать выслеживает Бояринова за многократный незаконный переход государственной границы СССР и никак не может схватить. И будто в этот раз, когда начальник ПМГ Буряк случайно задержал Бояринова на речвокзале в Томске, его ждали в районе Таганрога на Азове, поскольку было известно, что опять идет за границу без паспорта и виз. Через несколько недель, как я отпустил Гоя, его засекли службы наблюдения в Алтайских горах, но взять не смогли.
Бояринова пытались вести и отслеживать контакты, но этот нарушитель границ двигался странным, путаным маршрутом, и уходя от слежки, вдруг объявляясь в самых неожиданных точках, как, например, сейчас в Томске. Комитетчикам была известна даже конечная точка его маршрута - север Индии, куда он ходил многократно, спокойно минуя аж три границы сопредельных государств. Его подозревали и в шпионаже, и в контрабанде, записывали в сектанты, но ни разу никому не удавалось задержать его и тряхнуть, как следует.
И вот сержанту Буряку это наконец удалось, однако но моей "молодости и самоуверенности" Бояринов снова оказался на свободе.
Можно было бы не поверить ПП, ибо у него уже очки съезжали и язык заплетался, но его жена работала в Комитете. И была еще одна, самая важная деталь: после всех этих событий Буряк очень тихо уволился и скоро превратился в оперуполномоченного КГБ. Людей из милиции они в свои ряды не пускали, даже самых толковых, и это был исключительный случай, видимо, сержанта Буряка, имеющего всего-то десятилетку, взяли за какие-то особые заслуги или качества. В Томске он проработал не долго, как-то случайно в разговоре с Ромкой Казаковым (он был на пенсии, но еще лет пять сидел целыми днями в дежурке и знал все новости), выяснилось, что бывший начальник ПМГ давно уже в Москве, в центральном аппарате, а чем занимается, ведает только Андропов и сам бог.
***
После того, как мы расстались с Гоем на улице недалеко от отдела, я понял, для чего судьба привела в милицию. Когда-то он спас меня от смерти, завернув в шкуру красного быка, и вот теперь я спас его, и моя миссия в органах правопорядка окончена. Можно еще работать долго и много, раскрывать сложные преступления, выслужиться до майора или еще выше, но тот миг, во имя которого меня затянуло в уголовный розыск, свершился, я оказался в нужном месте и в нужное время.
И всего-то, как я тогда думал, чтоб вывести Гоя из клетки.
Вроде бы все прошло отлично, нет никаких оснований для разочарования, но отчего-то наваливалась тоска, поддавливало в солнечном сплетении, и хотелось посидеть где-нибудь на берегу родной речки и посмотреть на бегущую воду. Полностью предаться этим чувствам не мог, а точнее, не успел, поскольку началось разбирательство с отпущенным Бояриновым. Однако, едва приехав к месту ссылки, в Зырянское, я ощутил прилив хандры. Время подкатывало к зимней сессии, надо было сдавать контрольные и готовиться к экзаменам, да и жуликов, хоть и деревенских, бесхитростных, но ловить, а у меня отрыгнулся почти смывшийся вкус горькой соли и я не знал куда себя деть.
О встрече с Гоем я рассказал только отцу, предупредив, чтоб он молчал (к нему потом подсылали человечка, выспрашивали). К моей работе в милиции батя относился так же, как и к геологии, если не сказать, хуже, но тут одобрил, мол, правильно, что отпустил, иначе бы ваши костоломы замучили хорошего человека.
- Ну и как он живет? - еще спросил отец.
- Не знаю, - пожал он плечами. - На вид, как бродяга.
- А почему не спросил?
- Да неловко было...
- Зря. Чего застеснялся? Он же тебе как крестник, с того света вытащил. - И, покопавшись в бумагах, достал мою справку о смерти, выписанную фельдшерицей в 1957 году. - Вот, гляди, что нашел! Все хотел поймать эту бабу да пошантажировать. Чтоб хоть бутылку поставила... Да ладно уж.
Я не успел выхватить у него из рук этот уникальный документ, батя изорвал справку и бросил в помойное ведро. Он больше не верил в науку и тем более в медицину, поскольку матушка моя умерла на операционном столе...
И вот в ночь на 27 января 1977 года, ровно через двадцать лет после первого явления Гоя и спустя три месяца после второго, среди зимы у меня случился солнечный удар - иначе тогда я не мог объяснить того, что произошло.
Жил я тогда в ссылке, в маленькой избенке на улице Куйбышева (бабушка обрадовалась, что я вернулся домой, и купила), сидел ночью за учебниками и готовился к экзаменам. А был у меня старый, длинный "хвост" по "Истории государства и права" - это такая толстенная и бестолковая, для нормального восприятия, книга ни о чем. Во втором часу по полуночи окончательно отупел, закурил и вышел под морозное, звездное небо.
И вдруг ощутил во рту вкус горькой, отвратительной соли, которую в последний раз получил от Гоя, причем, такой явный, будто спустя столько времени отрыгнулось! Отплевался, поел снегу, прикурил еще одну сигарету - от горечи скулы сводило. Тогда я вспомнил, как мы с дедом умирали и как Гой давал нам сладкую соль и заворачивал меня в шкуру - все это было так далеко, словно в другой жизни и не со мной.
Мало-помалу я начал восстанавливать в памяти детали того времени, как мы с дедом собирались на рыбалку ловить золотую рыбку, как он утешал меня, будучи сам при смерти, как говорил, как смотрел и мысли приходили какие-то уж очень свежие, ясные, будто вся жизнь деда в один миг выстроилась в образ, простой и понятный, как икона.
На утро забыл все напрочь, ночной литературный приступ стерся в памяти и осталось лишь головная боль от непостижимой "Истории...". И только когда стал сгребать со стола учебники и конспекты, чтобы позавтракать, обнаружил свое сочинение.
И ужаснулся!
Я четко знал, что в здравом уме и трезвом сознании ничего подобного сделать не мог, ибо у меня никогда и мыслей не возникало о литературном творчестве. Стало понятно, это первый звонок, начался сдвиг по фазе и чтобы спрятать концы (а вдруг кто увидит и узнает?!), сунул тетрадь в печку и подпалил. Рукопись горела отлично, жарко, почти без дыма, и бумага потом сотлела в пепел.
Как прошел этот день и что я делал на работе, не помню, возможно, потому что все время думал о произошедшем и отслеживал реакцию на меня окружающих - вроде бы ничего не замечают.
И все равно около года жил под впечатлением случившегося, не помышляя больше о литературе, и если вспоминал свой "вывих", то со стыдом и желанием еще глубже скрыть его в себе. Но опять пришла зима, сессия, и обнаружилось, "хвост" по "Истории государства и права" до сих пор не отпал, и мне дали последний срок, чтоб его ликвидировать.
Едва я сел за учебники, как вновь во рту стало солоно, и вместо зубрежки, с удовольствием и жадностью я взял чистую тетрадь и начал писать рассказ о своем деде, точнее, о том, как его ранило, и как к нему пришла Карна, чтоб отвести в земной рай на реке Ура. Закончить не успел, глянул в окошко - солнце всходит, пора на работу бежать.
Вечером я снова сел будто бы за проклятую "Историю...", однако пришел следователь Володя Федосеев, с которым мы сдружились, усидели с ним бутылку водки, начали вспоминать весну, рыбалку, охоту, потом армию, детство, и что меня дернуло? Неожиданно для себя взял и рассказал ему, как проплутал около трех суток возле Божьего озера, совершенно не осознавая времени, как меня искали и когда нашли. Потом опомнился, схватил себя за язык, а было поздно. Володя не засмеялся, наоборот, стал задумчивым и отрешенным. Он не раз на этом озере рыбачил (впоследствии даже избушку построил на берегу), все места знал, и я понял, что у него там тоже что-то стряслось, только он рассказывать не захотел, скоро собрался и ушел. Я же завелся не на шутку, потерял контроль и, отложив первый рассказ, сел описывать эту историю.
Опять не заметил, как пролетела ночь, очнулся - пора на работу! В отделе я заперся в кабинете, достал оперативные бумаги, ничего не соображая, начал читать и вдруг вспомнил свое ночное парящее состояние, когда мысленно улетал на Божье озеро, в древний сосновый лес, которого на самом деле уже не существовало, вновь становился ребенком и бродил там меж старых, замшелых и живых деревьев. И это было настолько реально, что я чувствовал запахи, звуки, видел, как колыхаются пряди зеленого мха, свисающие с огромных сучьев, шишки и павшая хвоя колола босые подошвы, вздыбленные корни преграждали путь и я обходил их по высоким зарослям папоротника...
Вместо того, чтобы отписываться по бумагам, а проще говоря, доносам соседей друг на друга, больше половины которых была откровенной ложью, я опять погрузился в это удивительное, восторженное состояние. Время от времени в дверь стучали, но я открыл лишь к вечеру, когда пришел Володя Федосеев. Мне уже не было стыдно, вдруг потерял страх, что признают ненормальным, и мало того, готов был его защищать, точнее, свое право на это потрясающее до слез, ввергающее в безумную радость, состояние.
- Знаешь, Володь, я начал писать, - откровенно признался я.
Он даже не спросил, что писать, никак не выразил своих чувств, только глянул на стол с бумагами.
- Я это еще вчера понял, когда ты про Божье озеро рассказывал.
Почитать дашь?
Я протянул ему свой опус, Володя сел к окну и минут двадцать только листками шелестел. Потом стал смотреть за стекло, а оттуда даль открывалась с излучиной Чулыма, и хоть еще январь, но день солнечный, даже теплый, и будто есть уже в воздухе что-то весеннее.
- Все правильно написал, - одобрил задумчиво мой первый читатель.
- Только про деда ничего не сказал.
- Про какого деда? - насторожился я.
- Да там, на Божьем ходит. Высокий такой, борода сивая и взгляд какой-то... жгучий, что ли. В глаза не посмотреть... Ты же его встречал?
Он говорил о Гое!
Ну, ладно, я с раннего детства был очарован, а может, отравлен всеми этими чудесами, но Володька-то абсолютно нормальный, реалистический человек, и во всякую мистику не верит. Был он постарше меня, в милиции служил, прошел огни, воды и все службы (долгое время потом работал начальником Зырянского райотдела), а в милиции даже за несколько лет слетает всякий романтический флер, и весь мир начинает казаться пошлым, суконным и вороватым. Но вот поди ж ты - видел Гоя!
Причем, именно там, в сосновом лесу на Божьем - там, куда я ходил его искать.
Я не стал говорить, где еще встречал этого деда и почему в ссылке оказался: по официальной версии я уехал в Зырянское добровольно, в городе жить негде, да и на родину потянуло. Меня предупредили, чтоб я не болтал много и вообще радовался, что в органах остался, а так бы из партии исключили и выперли с волчьим билетом. Хотя слух об истинных причинах все-таки выполз из недр УВД, и за спиной говорили, мол, я в Томске сильно проштрафился.
- Неужели ты его не видел на Божьем? - показалось, Володя настороженно ждал положительного ответа.
- Да нет, видел, - успокоил я. - И не раз...
- А кто такой, знаешь?
- Говорили, приходит откуда-то, рыбачить, что ли...Федосеев был хорошим следователем, врать ему было бесполезно - не поверил, но уличать не захотел. Мы договорились, что поедем на Божье вместе, как только вскроется река, поживем на месте выпиленного бора, где уже подрастает молодой сосняк, походим и поищем Гоя. Однако экспедиция эта не состоялась, поскольку под воздействием солнечного удара уже в начале весны я написал рапорт на увольнение. И тут начались мытарства.
В то время уйти из милиции по собственному желанию было невозможно и существовало лишь два пути - или тебя забирают в советско-партийные органы, или ты напиваешься, устраиваешь скандал, желательно, с битьем морды начальнику и тебе выдают волчий билет, с которым идти можно в грузчики или кочегары. В руководящие органы меня не брали, а скандалить с начальником не хотелось, мужик хороший, потому я двинул официальным путем, согласно КЗОТу, который изучал в университете.
По логике вещей меня не должны были держать насильно, еще не забыли отпущенного злостного нарушителя границ Бояринова. Но то ли четко работающий аппарат не мог делать исключений и просто так увольнять, то ли кто-то был не заинтересован отпускать меня на гражданку, где я стану неуправляемым. Как бы ни было, а первый рапорт вернули назад с советом пойти с ним в определенное место. По второму рапорту вызвали в УВД и начали сначала воспитание, затем на моих глазах подписали возврат из ссылки на старое место, а еще через день из-за моего упорства повысили в должности, до старшего инспектора.
Потом наконец-то дали комнату в общежитии приборного завода.
И все нахваливали, какой я замечательный сотрудник, припомнили серьезные преступления, по которым работал и даже премию за раскрытие сложного убийства - двадцать рублей. Мы, вроде, всей душой к тебе, а ты противишься. Тогда я написал последний рапорт, приложил к нему удостоверение, карточку-заменитель на оружие, перестал выходить на работу и, чтоб не доставали, остался в Томске, где залег у одного приятеля - опера из другого отдела. Расчета не было никакого, просто я уже постоянно находился под воздействием солнечного удара , говоря языком нормального человека, нес полный "бред", "заговаривался" и, самое главное, не хотел выходить из такого состояния.
Неведомо по каким мотивам, но приятель сдал меня на четвертый день. К его частному дому на Черемошниках подъехала "Волга", откуда вылез подполковник из кадров (который уговаривал на работу) и, по виду, комитетчик в гражданском. Они поставили шофера под окна - все так, будто намеревались брать преступника. Стали стучать в дверь, мол, открывай, знаем, что здесь. А потом кадровик достал ключи, стал отпирать, комитетчик же звуков не подавал и стоял в сторонке, будто ни при чем. Оправдывались самые худшие предположения: не увольняли, потому что этого не хотели в КГБ. Вероятно, там подозревали связь с Гоем и перестали верить, что отпустил его по наивности.
Тут еще увольнение затеял...
Геологические пожитки украли, а в милиции ничего не нажил, разве что рукописи, с ними я и ушел через чердак и сараи. Все-таки, работа в уголовке кое-что дала, по крайней мере, уходить от преследования я знал как.
На сей раз выбрал самое неожиданное место, просчитать которое практически не могли - у родителей Надежды, моей подружки, не дождавшейся из армии. Во-первых, они жили недалеко от управления КГБ, а прятаться на видном месте всегда надежнее. Во-вторых, квартира у них была большая и пустая, мама с папой относились ко мне, как к родному и потому я заявился к ним, как домой, а когда попросился пожить некоторое время, сказали, хоть навсегда оставайся.
Тогда еще не знал, что все это значит и только радовался и целую неделю прожил, как у Христа за пазухой, кормили и поили, а я писал день и ночь. Они знали, где работаю, но я придумал легенду, мол, в отпуске, а в общаге ремонт.
И вдруг приезжает Надежда с дочкой, будто бы в отпуск! Вечер посидели за ностальгическими разговорами, и вроде бы уж ничего в сердце не осталось, но что-то защемило. Черт за язык дернул, взял да и рассказал, в каком я сейчас положении и что оказался тут потому, что меня пасут комитетчики, и не увольняют из милиции. А меня литература притянула, страсть к творчеству, солнечным удар случился, и мне теперь ничего в жизни не нужно.
Она вроде бы посочувствовала, почитала мои рассказы, по особенного оптимизма и поддержки не проявила. А тут еще родители жмут, дескать, что вы мыкаетесь? Один по общагам, вторая по квартирам - будто бы с мужем разошлась, сходитесь и живите. Надя смотрит чистыми детскими глазами и ждет, а у меня уже знакомое состояние - молчать!
Ничего не говорить, не спрашивать, пусть будет так, как будет. Она же расценила это по-своему и уже вроде как на правах будущей жены говорит, мол, оставь свое упрямство, забери рапорт, выходи на работу, восстанавливайся в университете (на сессию я не поехал и юридический бросил), дескать, ну какой из тебя писатель? Это же смешно.
Тогда я сказал Надежде все, что думаю на этот счет. Конечно, говорил резко, все вспомнил - измену, фотографии свадебные, присланные в армию (честное слово, сначала думал, шутка, нарядилась и сфотографировалась, а потом застрелиться хотелось), ну и сказал совсем лишнее, выспреннее, мол, цели в жизни у тебя никогда не было и нет, а жить так нельзя. Надя неожиданно рассвирепела - никогда такой не видел, на красивом греческом носу образовались некрасивые складки и губы растянулись, так что рот не закрывался, схватила дочь и убежала в сквер, куда ходила гулять.
А я стал собирать свои бумаги и вещички, но расслабился в уютной беззаботности, оброс всякой мелочевкой, типа запасных рубашек, носков - вот и не успел. От здания КГБ до Надиного дома было всего метров триста, и комитетчики, видно, бегом прибежали, потому что обратно мы шли пешком.
Я не грешу на свою бывшую возлюбленную, хотя теоретически знаю, что подобных совпадений не бывает, или они бывают очень редко, и еще знаю, предавший единожды, предаст еще. Она не могла этого сделать даже в состоянии аффекта или из искреннего желания помочь мне разобраться с самим собой. Столько лет прошло, но до сих пор не верю, и думаю, чекисты вычислили меня именно в тот момент, когда я поссорился с Надей.
На сей раз они не пытали меня по поводу Гоя и его возможных мест пребывания; зато тщательно, до мельчайших подробностей, расспрашивали, каким образом я попал в ОМСБОН, кто со мной беседовал и о чем. Потом - как я служил, с кем дружил, какие связи были у меня в Москве, в том числе, и с сотрудниками и особенно, сотрудницами охраняемых объектов.
Затем переключились на Таймырский период жизни, и опять - как, с кем, кто, почему. И это часа на четыре! Про милицейские будни тоже спрашивали, и еще с особым пристрастием допытывались, кто конкретно уговорил пойти на работу в органы - я с удовольствием сдал того подполковника и обрисовал в деталях, как он меня уламывал, чем заманивал.
Наконец, задали вопрос логический и ожидаемый: чем могу объяснить свое удивительное везение - попадать туда, где есть золото, алмазы и прочие драгоценности?
- Судьба! - ответил я совершенно серьезно, однако комитетчики в мой фатализм совершенно не поверили.
В общем, копали теперь конкретно под меня, возможно, искали точки соприкосновения родных, друзей, знакомых и сослуживцев с нарушителем государственных границ. Беседовали со мной сразу три чекиста: двое местных, а один приезжий, из центрального аппарата. Москвич этот приметный был, молодой, лет тридцати пяти, а уже белый от седины, и я на ходу сочинял его историю, - вероятно, выполнял особо важное задание и хватил лиха.
И он же потом проводил меня из здания, сказал на прощанье, чтоб я не волновался, ничего особенного нет, просто идет плановая проверка сотрудников милиции. Мол, криминальный элемент всегда липнет к работникам органов, заводит знакомства, чтоб делать свои черные дела, а мы-де, отслеживаем и отсекаем коварных злодеев. И опровергая свои же слова, добавил по-свойски, что вопрос с увольнением будет решен положительно, если я так хочу, и еще пожелал всяческих успехов на ниве литературы.
Душевным, симпатичным человеком оказался этот седой, ну свой в доску парень, только вот не предупредил, что теперь за мной установлено наружное наблюдение, которое я засек через десять минут, как вышел из управления. Невзрачный человечек топал за мной и тосковал на скамеечках в сквере около двух часов, пока я ждал, когда Надежда выйдет с дочкой на прогулку. Потом первого наблюдателя сменил папаша с коляской и учебниками, - под семейного студента работал (а может, таковым и был). Далее пост принял скучающий пенсионер с авоськой (комитетчики знали, что я хорошо знаком с оперативной работой и замену игроков делали часто, чтоб не примелькались). Наконец Надежда вышла одна и застучала каблучками к магазину. Я просто встал у нее на пути и увидел полное безразличие в ее глазах.
- Вот теперь я свободен, - сказал я. - И от тебя тоже.
Еще неделю уже открыто (но под неусыпным наблюдением) жил и работал всласть у Олега Жукова, с которым учились в техникуме, но тут приехала его жена, сказала, чтоб я не сводил с ума ее мужа (глядя на меня, он начал кропать приключенческие рассказы). И тогда из спортивного интереса я решил поиграть с чекистами в прятки и уйти из-под слежки. Пеший "хвост" скинул в городе, а сам через Анжеро-Судженск, окольными путями, приехал в Зырянское, и ночью пришел к единомышленнику и верному другу Володе Федосееву, который спрятал меня в своей охотничьей избушке и контролировал изменение обстановки в "миру".
Здесь я начал свой первый роман, который сначала был небольшой повестью и назывался "Хождение за Словом" (позже переименован поэтом Сергеем Викуловым, бывшим тогда главным редактором журнала "Наш современник", просто в "Слово"). Толчком послужила история, произошедшая еще в семидесятом году, когда я был на практике в Ангарской экспедиции. Начальник отряда послал меня в рекогносцировочный маршрут за пятнадцать километров, в конце которого я должен был задать точку для бурения скважины.
Точку эту я благополучно нашел, вбил репер, разрубил просеку до речки и неожиданно наткнулся на старообрядческий скит, погибший, может быть, лет тридцать назад. Именно погибший, поскольку косточки его последнего обитателя лежали в колоде на повети. Тогда я еще не знал кержацких обычаев, но по наитию сделал как надо - выкопал могилу на берегу реки, схоронил и поставил заготовленный предусмотрительным хозяином старообрядческий восьмиконечный крест. В доме же оказалось семнадцать старых книг, написанных на древнерусском, а значит, тарабарском для тогдашнего моего сознания, языке. И еще около десятка меднолитых икон, серебряный крест весом килограмма в три, лампадки и причудливые подсвечники.
На Ангаре и до того находили подобные скиты, куда забирались наши буровики-бичи и все растаскивали: сам видел икону, приколоченную гвоздями к сосне над рукомойником, сейчас думаю, века эдак шестнадцатого, с золоченым фоном. Поэтому все найденное в скиту я затолкал в рюкзак, унес в лагерь, запечатал в ящик из-под взрывчатки и месяц таскал за собой от стоянки до стоянки, пытался читать, вернее, искал знакомые буквы и как кровью наливался чувством, будто стою у края пропасти и в руках у меня нечто таинственное, неведомое человечеству. Наконец, меня и нашего геофизика посреди сезона послали в Красноярск за новой аппаратурой, я взял ящик и увез с собой.
Наверное, нас правильно в школах воспитывали, и единственное, чего не объяснили и не втолковали, что люди бывают разные, есть мошенники, ворюги, проходимцы и доверять первым встречным нельзя.
Потом, работая уже в милиции, я в этом убедился, а тогда времени было в обрез, потому притащил свой ящик в музей субботним днем (завтра улетать), ко мне вышел парень, раскосый, возможно, казах или из северных народов, посмотрел книги, иконы, поблагодарил, и я ушел с сознанием выполненного долга. Но все-таки подозрение, что сделал глупость, осталось: у этого парня отчего-то руки тряслись, когда он перебирал реликвии, а по восточному лицу я тогда чувства читать не умел.
Возвращаясь с практики, заехал в музей, узнать, ценные ли для науки эти книги - на меня смотрели вытаращенными глазами, потому как ни толстенных черных фолиантов, ни икон и прочей утвари никто не видел, а раскосый парень-студент одно время работал у них сторожем, да почему-то быстренько уволился...
Вспомнив эту историю, я неожиданно для себя связал Гоя со старообрядцами. А откуда еще, как не из тайных скитов и монастырей может быть такой человек? И где еще могли сохраниться древние способы лечения, как например, горячая шкура красного быка?
Кержаков я знал не только по экспедициям, несколько их семей жило уединенно неподалеку от моей родины, на Чети. О них рассказывали, что никого к себе не пускают, детей в школу не отдают, вина не пьют, не гуляют и только богу молятся. Иногда дед, ругаясь на бабушку, обзывал ее кержачкой за то, что она слишком много времени стоит перед иконами или божественные книги читает. Жизнь их для наших леспромхозовских краев с вольной, полупьяной жизнью казалась таинственной и одновременно страшноватой, но в детстве я старообрядцев ни разу не видел, поскольку они ушли со своего места после того, как возле скита начали рубить лес. Кержаки откуда-то появлялись и так же бесследно исчезали, за четыре месяца полевого сезона мы видели их несколько раз, но кроме брошенного жилья не находили ни единого следа, хотя работали на огромной площади и доходили до Подкаменной Тунгуски.
Впервые я столкнулся с ними там же, на Ангаре, еще до того, как нашел заброшенный скит с книгами. Я остался в лагере, чтоб истопить походную баню и рубил на берегу дрова, когда они появились снизу.
Они шли по речке Сухой Пит и вели корову - молодой чернобородый мужик с длинными волосами и не смотря на жару, в шапке, и с ним женщина, видно, жена, до бровей завязанная платком. Прошли сначала мимо меня, затем привязали корову к дереву, чтоб попаслась, и мужик подошел ко мне. Не здороваясь, долго стоял, смотрел с любопытством и удивлением, как я кочегарю каменку, стоящую под открытым небом. И все-таки не выдержал.
- Ты что, паря, делаешь? - спросил густым, раскатистым голосом.
- Баню топлю.
- Да где же баня-то? - ухмыльнулся в бороду.
- А вот раскалю каменку - сверху натянем палатку, - объяснил я. - Поддавай и парься!
- Истинно, анчихристы! - сказал мужик ли с осуждением, то ли с похвалой и подался к жене.
Потом они еще раз приходили невесть откуда и несколько дней ждали, когда прилетит вертолет, чтобы выменять соболей на керосин.
Выменяли целую флягу и так же ушли неизвестно куда.
Гой являлся и исчезал точно так же!
Сюжет повести тогда еще был незамысловатый, про то, как я попал в заброшенный скит и нашел там неведомую миру рукопись некого старца Дивея, который принадлежал к тайному старообрядческому толку Гоев, но по недомыслию утратил ее и потом искал несколько лет, гоняясь за похитителем по всей стране.
Работой я увлекся так, что не замечал времени, спутал день и ночь, просыпаясь утром, думал, что вечер и наоборот - состояние было такое, словно искрами брызгал!
И здесь снова начала снится Манарага, причем, сон повторялся с небольшими изменениями. Будто я поднялся на гору, к останцам, и увидел надписи на скалах - петроглифы, но ни прочитать, ни срисовать, ни запомнить не могу. Они какие-то неясные, размытые, будто под водой. В это время на одном из останцев появляется женщина в синем плаще и манит призывно рукой. Я бегу к ней, а оказывается, не меня зовут, а каких-то мужиков, которые долбят лодку из толстого тополя у подошвы скалы.
Это как в переполненном автобусе, увидишь улыбающуюся женщину, и кажется, это тебе, а в самом деле ее радость подарена совсем другому...
Всякий раз просыпался я с неприятным чувством, будто меня обманули, и когда сон этот стал мучительным, я пообещал сам себе, что как только меня уволят и не будут выслеживать, сразу же поеду на Урал.
В следующую ночь я спал, как убитый и по горам не лазил, а еще через сутки Володя привез копию приказа о моем увольнении...
Манарага
До первой экспедиции на Урал я редко или вообще никогда не вспоминал о сказочном русском богатыре Святогоре. Не помнил, когда в последний раз и имя это произносил, мысленно или вслух - просто не было ни причины, ни случая.
И тут, еще до восхода, впервые увидев на горизонте туманную Манарагу, вдруг непроизвольно произнес это имя и сразу раскрыл его:
Свято Гор - Светлая Гора - Солнечная Гора (или Гора Солнца) - Манарага!
Значит, Святогор - ее владыка! Или напротив, служитель, волхв, зажигающий во мраке ночи священный жертвенный огонь, чтоб осветить пространство.
И не просто ночи - "ядерной" зимы, вызванной оледенением материка!
Вот откуда появился в русском эпосе богатырь Святогор, происхождение которого и предназначение остается неясным.
Далее началось невообразимое. Охваченный впечатлением от столь легкого проникновения в суть образа былинного богатыря и стараясь не расплескать это состояние, я увидел восходящее солнце и будто еще раз получил солнечный удар .
Наверное, от восторга открытия, от радости утра у меня непроизвольно вырвалось:
- Ура!
Никакого голоса извне я не слышал, все происходило естественно, даже обыденно, просто в голове потянулась логическая нить и не из вопросов, как было всегда, а из ответов:
- РА - бог солнца у древних египтян. Но река ВОЛГА называлась РА, рекой Солнца, не в Египте, а у нас! И была еще река УРА, куда Карна водила моего деда и показывала рай - место бесконечного Света, или божественного Света.
Возглас - УРА, это значит, "у солнца", или "у света"!
Антоним УРА - УВЫ, потому что ВЫ - множественное число и означает тьму. И люди говорят: увы мне, увы, когда все плохо и что-то не удается.. Князь Святослав провозглашал (и за ним другие повторяли) - иду на вы! Нет, не хазар так уважал, а на тьму шел войной. Потому бога нужно называть на "ты", ибо он есть Свет и нельзя говорить ему - "тьма".
Подобные чувства я испытывал лишь в детстве, когда весело только оттого, что вокруг живой мир, свет, вода, тепло, птицы поют, деревья растут, трава цветет, родители живы и здоровы. И совершенно не требуется ощущать ВРЕМЯ, как на берегу Божьего озера. Лишь бы солнце светило над головой, потому что слово РАДОСТЬ означает "солнечный свет давать". И излучать его, ибо радостный человек начинает светиться, как солнце. Когда говорят - лицо осветилось радостью - говорят не правильно, это тавтология. В самом слове уже все заложено!
От РА само собой открылось слово АР, перевернутое звучание, как его "обратная сторона", Свет, спроецированный на Землю, суть сама Земля. АРХЕ на греческом буквально НАЧАЛО. Это как A3, начало всех начал, огненное рождение, поскольку 3 - знак божественного проявления, света или огня; и ЯЗ, конец всех начал, но одновременно возвращающий к началу, ибо присутствует все тот же знак. И все вместе - соединение в замкнутый круг, в КОЛО, в КРУГ ЖИЗНИ, почему и похожее звучание. АРА - Земля под Солнцем или КРУГ. Отсюда ОРАТЬ или АРАТЬ - буквально, жить на земле под солнцем, естественно пахать жито . АР, АРШИН, АРЕАЛ - меры площади земли или ее длины. АРКА - то что выходит из земли и уходит в нее, АРАМЕЙЦЫ, АРМЯНЕ, АРАБЫ, АРИИ - люди, живущие на земле под солнцем.
Я бегал по берегу Косью, махал руками, прыгал и кричал "Ура!" бесконечному пространству за рекой, не боясь, что меня примут за сумасшедшего или я таковым на самом деле окажусь.
Семнадцатого июня 1979 года, на двадцать втором году от явления Гоя (число восстановил потом, поскольку в то время сбился со счета), в верхнем течении реки Косью, в непосредственной близости от горы Манарага, я нашел ключ к своему родному языку.
Этот день я прожил, как во сне, легко расшифровывая самые закрытые, занесенные илом времени, человеческого безумия и беспамятства слова. Тут же открылась сама МАНАРАГА - Манящая к Солнцу, или точнее, Манящая, заставляющая двигаться к Солнцу, поскольку ГА могло означать только Движение - НОГА, ТЕЛЕГА, БРОДЯГА и все, что двигается - названия тех же вологодских речек. (Когда добрался до санскритского словаря, оказалось точно - именно "движение"). Все, что стоит и не движется, находится в состоянии относительного покоя, непременно имеет в основе слова СТ - СТОЛ, СТЕНА, СТОЛБ, СТАН, СТУПА и так далее. Тогда СТАР, СТАРЫЙ, СТАРИК - буквально, стоящий в земле. Не зря о старом человеке говорят: стоит одной ногой в могиле!
И последнюю точку поставила КРАМОЛА, над которой я так долго мучился - К СОЛНЦУ МОЛЯЩИЕСЯ. Те, кто молятся Солнцу - Крамольники!
Вероятно, в глубокой древности, не исключено, после отступления ледника, когда ушедшие на чужой Юг и поменявшие там свою веру АРИИ вернулись на отчий Север и обнаружили своих оставшихся братьев-солнцепоклонников, переживших Великое Оледенение на месте.
Встретили СЛОВЯН, то есть, живущих не с сохи, не с АРАЛА, а с ЛОВА (то есть, с охоты, поскольку пахать землю, точнее, тундру, еще было нельзя). Увидели забытые обряды, Храмы Солнца, ушедшие из лексикона слова услышали, но как всякие новообращенные в чужую религию (полагаю, они ушли от единобожия РОДА-РАДА - бога, дающего свет и жизнь, и приняли тот сонм богов, который впоследствии войдет в пантеон Владимира), стали истовыми, бескомпромиссными, агрессивными, и обряды крамольников наполнили отрицательным смыслом, смеялись над священными гимнами, а суть вещих слов обратили в ругательства.
Так поступали все поборники чужой веры и во все времена . Отсюда возникло выражение "язычник поганый", когда на Руси свергли идолище Перуново и внедрили христианство. (ЯЗ - ЯЗЫК - ЯЗЫЧНИК - исповедующий не религию, поскольку таковой не существовало, а имеющий мировоззрение КРУГА ЖИЗНИ, от A3 до ЯЗ).
Потом смели и христианство, вложив порочный смысл в то, что еще недавно было свято и непорочно.
Забыв обо всем, я сидел и открывал привычные уху, тысячи раз повторяемые слова, которые вдруг оживали, светились и будили сознание.
Например, простое определение времени - ПОРА (по солнцу), РАНО (до восхода); качества, превосходства, цвета - КРАСНЫЙ, ПРЕКРАСНЫЙ. ХРАМ - жилище, вместилище бога РА (называя Манарагу Храмом Солнца, я тоже занимался тавтологией). Зато в слове ХОРОМЫ почти утрачен первоначальный смысл, как например, ПРАХ (испепеленное солнцем, пыль) и ПОРОХ, МРАК и МОРОК...
Мне надо было идти и штурмовать вершину Манараги, искать Ледяное озеро и ловить золотую рыбку, а я не мог оторваться от удивительного путешествия в магический мир первородного языка.
РАМА - основополагающее, костяк (рамо - плечи), вседержитель.
МАРА - отсутствие солнца-вседержителя, тьма, смерть, буквально подземный мир.
РАДУГА - солнечная дуга...
КРАПИВА - пьющая солнце, потому и жалящая, обжигающая, как его лучи...
КРАЙ - там, где солнце уходит в землю и стоит всю ночь, южное полушарие.
Наконец, КАРНА - земная, лишенная космоса, относящаяся к земному свету - РАЮ; обкарнать - обрезать космы солнечного света - волосы, предать их земле, карнаухий - человек с обрезанными ушами...
Когда ночью мне становилось холодно, я собирал дрова, разводил огонь и бегал вокруг, как дикарь, вспоминая великое оледенение, и все мысли возвращались к тому, что я испытал. Его величество ХОЛОД - вот что было первопричиной всякого движения , необходимости искать или прокладывать Пути по Земле, да и причиной развития технического прогресса тоже стал он, неумолимый и беспощадный властитель Севера.
Тепло, жар (который костей не ломит) потворствуют бездумности, умственной лени и неге, единственные заботы - это отыскать пищу и тень. Холод вынуждает мыслить , чтоб согреться, добыть огонь, найти или построить жилище, с невероятными трудами и ухищрениями добыть или вырастить пищу, поэтому Человек Разумный не мог появиться в Африке или Ближнем Востоке.
Его родина - Север!
ХОЛОД - ХЛАД, МОРОЗ - МРАЗ. Буква О, как морена, притащенная бог весть откуда ледником и покрывшая камнем плодородные нивы. В слове ХЛАД четко прочитывается корень ЛАД - обустроенный мир, гармония, добро, в таком случае, что означает знак X, если учитывать, что в древнем языке нет ничего лишнего? Хранить, хоронить - закапывать в землю, прятать. Выходит ХЛАД - похороненный ЛАД. Но обычно говорят и пишут, "наступили холода", а раньше - наступил хлад великий... Наступать - двигаться, то есть ХЛАД в буквальном смысле ЛЕДНИК!
Вот что сохранило такое привычное слово - холод...
А что же сегодня слышится в слове, несущем огромную историческую информацию? Да только низкая температура! МОРОЗ - МРАЗ - почти та же история. РАЗ - солнечный огонь (тепло, свет, жар), М - точно знак смерти, ибо нет такого слова, означающего кончину без этой буквы - сМерть, Мрак, Мертвец, Мор, Море, Мерзость. Получается, МРАЗ - смерть солнечного огня (но не самого солнца) - тоже информация о великом оледенении.
И там же, на подступах к Горе Солнца я впервые попробовал объяснить себе закономерность образования, закрепления и сохранения топонимики на примере горы Манарага, долгое время считавшейся высшей вершиной Урала. (Вероятно, когда-то она таковой и была, но процесс выветривания сделал свое дело и первой вершиной стала гора Народа).
Именно топонимика Северного и Приполярного Урала, а потом вообще всего Русского Севера подтолкнули к мысли о существовании Северной цивилизации, лежащей между Восточной и Западной, с центром на территории Каменного Пояса.
Цивилизации, которая не погибла из-за оледенения континента!
Великое переселение народов длилось не одну сотню лет. В результате некогда густо заселенный Север опустел, но часть племен или всего одно племя, элита народов с единой языковой и культурной общностью осталась на месте. Она-то и стала хранителем названий гор, рек, озер и местностей, хранителем той древней топонимики, которая увязывалась с Космосом, а вместе с ней из глубин тысячелетий пришло представление наших прапредков о мире и их язык.
Язык, который понятен современному славянину, если найти к нему не такой уж и мудреный ключ. И вообще, если вплотную заняться "археологией" русского и белорусского языков, например, можно восстановить утраченную магическую суть и силу человеческой речи, то самое СЛОВО, тот A3, который был вначале всех начал. Не зря ведь в сказках, да и не только в них, сохранились словесные формулы, с помощью которых можно совершить невозможное: "Сивка Бурка, Вещий Каурка, встань передо мной, как лист перед травой", плач Ярославны в "Слове о полку Игореве". Мы сегодня говорим на "пустом" языке, поэтому так многословны.
***
Она была точно такой, как видел во сне, разве что пониже, если смотреть с небольшого расстояния, не такая крутая и совсем обветшавшая: кругом развалы камней, поросшие чахлыми лиственницами, да крутые осыпи.
Пока я шел к ней, она казалась блестящей, белой, неприступной - истинной манящей МАНАРАГОЙ. И когда по утрам в горах был туман или над вершиной висели тучи, создавалось впечатление, будто она немыслимой для Урала высоты, наполовину покрыта ледником, и если уступает Монблану, то совсем немного. Несмотря ни на что, разочарования я не испытывал, другое дело, за пять дней пешего хода вдоль петляющей горной реки Косью, отвыкший от маршрутов, устал, до дрожи в ногах.
Очень уж хотелось подняться к подошве Манараги: ночи на Приполярном Урале настолько белые, что газету читать можно, но сил хватило забраться по обледеневшему ручью только метров на триста. Внизу свирепствовал июньский гнус, особенно прожорливый вечером, а здесь, среди льда и снега, я впервые вздохнул свободно, выбрал сухое, мшистое место, завернулся в брезент и уснул.
МАНА - РА - ГА - манящая к солнцу!
Ночью заморосил дождь, потом начался холодный ветер, а я с вечера даже костра не развел, из теплых вещей один свитер, вместо палатки - кусок брезента. На ощупь спустился чуть ниже, к огромным камням, отыскал укромное место под нависшей глыбой, завернулся с головой, забрался поглубже и опять уснул. И был уверен, что собака - крупная немецкая овчарка с ошейником, - мне приснилась. Будто подошла к моей норе, обнюхала брезент и ушла. Откуда ей было взяться здесь, за сотню километров от жилья, да и местные вряд ли держат овчарок...
Когда же в четвертом часу, утром, промерзший насквозь, выполз из убежища, сначала поразился тому, что кругом белым бело: снегу и так было много, а тут выпало еще на четверть! За горой уже заря наклевывалась в чистом, без единого облачка, небе, и ветер вроде бы сменился, потеплел, так что снег сделался липким. Я закинул рюкзак за спину, глянул себе под ноги и замер от неприятного изумления: сон в руку, по тающей белой пелене тянулось два собачьих следа - входной снизу и выходной на восток, к Манараге. Возле моего лежбища овчарка немного потопталась, затем сделала скачок, будто испугалась чего или кто-то ее позвал, и неторопко потрусила дальше. Озираясь по сторонам, я обошел вокруг каменного развала, однако человеческого следа не нашел - то есть, собака пробегала тут одна или хозяин ее шел далеко стороной.
Было скользко, но ждать, когда растает свежак, не хватало терпения, и я двинул собачьим следом, благо, что подъем был пологим, а под снегом чувствовалась щебенка. Гора казалась рядом, однако я карабкался к ней около часа и лишь когда поднялся на плато, увидел наконец подножие, точнее, нагромождение глыб, присыпанных снегом.
Овчарка сделала непонятный зигзаг, забравшись на угловатую наклонную плиту, порыскала там взад-вперед, спрыгнула и ушла скачками к каменному развалу, будто кто-то позвал. Я тоже поднялся на эту плиту и сел на сухую кромку, свесив ноги.
И лишь сейчас оторвал глаза от земли: седая от снега Манарага была ослепительно прекрасной и одновременно зловещей, как всякая слишком красивая женщина. Однако любовался я ею совсем недолго, может десять секунд всего. Потом невидимое еще солнце зацепило верхушки скал и будто раскалило, разогрело их так, что огненно-желтый расплав, вызревший до сверкающей лавы, преодолел связующую твердость и теперь обрушился вниз.
Я вскочил и попятился, поймав себя на желании бежать назад. Было полное ощущение, что началось извержение вулкана или некий космический катаклизм! Десятки островерхих скал растаяли на глазах и на вершине образовалась гигантская, правильной формы чаша, до краев наполненная кипящим расплавом, и из него, как с поверхности солнца, медленно выползали, закручивались в спираль и затем взрывались гигантские плазменные протуберанцы. Они - не врут мои глаза! - уносились вертикально в космос, высвечивая его, будто лучами прожекторов.
Именно высвечивая, потому что в то время небо над Манарагой стало ночным, темно-синим и звездчатым. И я стремился заглянуть туда, вслед за этими дымчато-яркими, медленно вращающимися вокруг оси лучами, и в свете их различал некое переплетение объемных, желто-розовых конструкций в виде несущих ферм, однако далее пространство становилось ослепительно белым, глаза заполнялись слезами, и веки закрывались непроизвольно.
От невероятного вдохновения и страха мне хотелось орать, и возможно, я орал, поскольку через какое-то время обнаружил, что потерял голос. Кипение перегретой магмы в чаше продолжалось минут пять-семь, но над ее поверхностью родилось десятка полтора протуберанцев (их можно было считать!), и только выпустив их в космос, гора начала успокаиваться. Этот сверкающий, ленивый парок над чашей, из которого потом возникали ядерные взрывы, медленно потерял энергию и будто всосался в пламенную, бурлящую ключом плоть, а выбитые кипением из расплава султанчики начали опадать, и скоро блистающая поверхность только бродила, как варево на слабом огне.
Когда же и это движение постепенно замерло и померкла сила свечения остывающей магмы, опять же быстро, на глазах, началась кристаллизация. То, что было жидким и только что клокотало, стремительно увеличивалось в объеме, раздувалось вширь, росло вверх, приобретая конусные формы и одновременно теряло температуру, и цвета от оранжевого переливались в малиновые. До тех пор, пока на вершине Манараги вновь не восстали остывающие стрельчатые зубья, будто птица Феникс из пепла.
Ничего подобного я в жизни не видел, но даже не отошедший от потрясения, головой понимал (себе в утешение), что это, должно быть, световой эффект, вероятно вызванный особым состоянием оптики атмосферы. А душа протестовала - нет, слишком уж естественная и детальная картина разворачивалась на восходе солнца. Полное ощущение, что в проектор заправили когда-то отснятую, может, при рождении этих гор, пленку и солнце лишь высветило, спроектировало кадры на экран.
Я много раз видел восходы и закаты в горах, напоминающих Уральские, такие же истертые ледниками и выветрившиеся, причем, в разное время и во всяком климате. И если это всего-навсего зрительный обман, особое преломление лучей в пространстве, то почему никогда не наблюдал даже чего-нибудь отдаленно похожего, хотя бы незначительные детали того, что увидел только сейчас?
Конечно, больше всего поразило, осталось в зрительной памяти и запечатлелось сознанием возникновение чаши, когда верхняя половина Манараги расплавилась, а нижняя стала служить постаментом и была твердой, иссиня темной. И когда сверкающие брызги вылетали за край этого кипящего котла, то на мгновение высвечивали совершенно реальные склоны горы и развалы камней. Мало того, выплеснувшаяся магма потом медленно остывала и еще некоторое время светилась на черном фоне подошвы. И я находился близко от этих замерзающих капель, так близко, что чувствовал исходящий от них жар, согрелся после сна под глыбой, а потом и вовсе пробило в пот. Поэтому в первую очередь, едва стряхнув оцепенение, я стал осматриваться, почти уверенный, что найду эти вулканические брызги, однако снег был чистейшим, нетронутым, и лишь цепочка собачьих следов тянула чуть наискосок, к склону Манараги.
Часа два я все еще стоял на плите, взбудораженный настолько, что забыл, зачем и в горы пришел, вдруг обнаружил, что трясутся руки и ноги, а сам все еще задираю голову и смотрю в небо над вершиной. На какое-то время отшибло память, я не знал, что мне нужно делать дальше, однако тепло улетучилось быстрее, чем ошеломление, взмокшую спину захолодило, а солнце, оторвавшись от горы, было еще тусклым и не грело.
Озноб привел в чувство, заставил вернуться на землю, и я наконец-то вспомнил, что собирался подняться на вершину и посмотреть оттуда, где находится Ледяное озеро, как учил дед.
Наконец-то я спустился с плиты и полез в курумник, держась собачьего тающего следа. Ходить по крутым каменистым склонам на двух ногах даже в сухую погоду не просто, а в дождь лишайник размокает и становится хуже мыла; чтоб не переломать ног на развалах, присыпанных свежим талым снегом, передвигаться можно только на четвереньках или ползком (было, ползали на курумниках Енисейского кряжа). После увиденного восхода над Манарагой я не мог смотреть под ноги и все тянул голову вверх - ощущение было, что там еще что-то может произойти, чего я вдруг не замечу. И только потому начал падать.
Первый раз удачно, во второй разбил локоть, кожу будто рашпилем сдернуло да еще ушиб нерв и отсушил руку. Но еще пролез метров пятьдесят, прежде чем осознал, что похож на самоубийцу.
Кое-как, с оглядкой, спустился назад, к ручью, до первых лиственниц, благо что двигался по собачьим следам. А овчарка, умница, не лезла на камни и выбирала путь по слежавшимся щебенистым осыпям.
Внизу распалил костер и встал под дым, раскинув над спиной брезент, как парус: то ли за ночь так прозяб, то ли от потрясающего зрелища еще не прошло испуганное, адреналиновое волнение, но меня колотило, даже если я лез почти в самый огонь.
Между тем солнце взошло над Уралом, всколыхнуло воздух, и юго-западный теплый ветер докатился до подножия горы. Рыхлый снег начал быстро таять, вода сразу впитывалась в мох, уходила в щебень и через два часа было почти сухо, внизу снова наступило лето, однако склоны и сама Манарага все еще оставались пестрыми, черно-белыми.
Еще два дня назад, как только увидел Манарагу на горизонте, я шел и выбирал себе маршрут подъема, и чем ближе подходил, тем чаще их менял, поскольку гора вырисовывалась все новыми своими гранями. И вчера я остановился на самом реальном - с западной стороны вдоль ручья, где склон более пологий и на его середине есть довольно плоский горб, наверняка сложенный глыбами - как раз на этом месте лежали края огненной чаши.
Отогревшись, я не стал ждать, когда обтают склоны, обращенные к солнцу, и пошел штурмовать Манарагу во второй раз. Думал, пока иду, снег сгонит, через силу съел сухарь с куском сахара, нарубил специально заточенной саперной лопаткой небольшую вязанку дров (на верху палки не найдешь), приторочил к рюкзаку и двинул назад, к плите, откуда наблюдал восход солнца.
Альпинистом я был не ахти каким, впрочем, как и скалолазом. Так, ползал по горкам на Ангаре, на Таймыре да на Красноярских Столбах развлекался. Потому шел, как турист, и из снаряжения был кусок веревки метров тридцать, два настоящих крюка, саперная лопатка в чехле на поясе, да геологический молоток, подаренный Толей Стрельниковым в качестве талисмана. На длинной ручке было выжжено его философское изречение (а может и спер у кого): "Не все золото, что блестит, говорим мы и проходим мимо самородков."
Однако тут почти ничего не понадобилось, разве что самодельный молоток, который можно было использовать как ледоруб или костыль. Снег и в самом деле сгоняло по мере того, как я карабкался в гору, оставался лишь старый, зимний. Склон оказался довольно пологим и если попадался неприступный порог, то его всегда можно было обойти. К половине десятого подъем стал еще более пологим, и скоро я с замиранием души выбрался на площадку, почти горизонтальную - на постамент, в котором на восходе стояла солнечная чаша.
Ничего здесь особенного не было, все те же нагромождения камней, покрытых лишайниками, и никаких следов оплавления либо обжига (а таилась в душе надежда, уж слишком естественно виделась чаша с клокочущим расплавом!). Даже снег тут растаял лишь на верхушках камней, остальной лежал целеньким, провалившись между глыб. Я начал искать место, чтоб прикрыться от ветра, развести костерок и сварить крепкого чаю, и неожиданно наткнулся на собачьи следы. Вон куда забралась! И спрашивается, зачем, если не хозяин ее сюда завел?
Оставив рюкзак, налегке, я выписал приличный круг но развалу, в надежде все-таки подсечь следы человека, однако, кроме своих собственных, ничего не нашел.
Не может, не должна собака просто так, самостоятельно, лезть в гору! Причем, на высоту в полторы тысячи метров! И если даже это не овчарка, а волк, то и ему тут делать нечего: добычи никакой, а логова волчицы устраивают, наоборот, в низких местах, поближе к воде...
Разводить костер, впрочем, как и распивать чаи сразу расхотелось, можно выдать себя дымом. А еще поймал себя на том, что постоянно озираюсь и хожу, прячась за камни - где-то должен быть человек!
Конечно, после того, когда ты больше месяца ходил под "наружкой" и все время ее чувствовал и видел, какой-то элемент мании преследования в мозгах застревает. По крайней мере, еще долго остается привычка отслеживать, нет ли "хвоста", и я это испытал в поездах, пока ехал из Томска и потом, от Москвы до поселка Косью. Не мог избавиться от желания оглянуться, даже когда нанял мужика с моторной лодкой и плыл вверх по пустынной реке - шарил глазами берега и смотрел назад, не догоняют ли. Да и когда несколько дней кряду шуршал щебенкой по речным откосам и отмелям, ночуя по берегам, все еще озирался.
Никто меня не выслеживал, это совершенно точно, встречных-поперечных за всю пешую дорогу я не встречал, если не считать "Казанку" под мотором "Вихрь", промчавшуюся мимо вниз по реке - вроде, форменная фуражка лесника или егеря мелькнула, но я заранее спрятался за камень и видеть он меня не мог.
О том, что я иду к Манараге, никто не знал, мужик подвез на лодке только до слияния Косью с Вангыром, будто бы рыбака, и оставил на берегу. Куда я пошел дальше, он не видел, поскольку был похмельным и получил расчет жидкой валютой.
То есть, если сейчас кто-то еще поднимается на гору с собакой, делает это независимо от меня, просто, пути так сошлись... Но зачем же тогда ему прятать следы? И как ему удается делать это, двигаясь по свежему снегу? Все время прыгать по оттаявшим лысинам камней невозможно в принципе...
Спрятав рюкзак, с одним молотком да лопаткой на поясе, я пошел собачьим следом, полагая, что он непременно сойдется с хозяйским: судя по зигзагам, овчарка рыскала по сторонам, но по ее собачьей привычке все равно держалась человеческого следа и всякий раз обязательно его пересекала, таким образом ориентируясь на основное направление движения. Отошел всего полтораста метров, если по прямой, и тут след нырнул между глыб, где пропал. Я обошел развал - выхода не было, значит, собака спряталась где-то здесь. Протиснувшись боком, я попытался разглядеть, что там, в нагромождении камня, однако ослепленный белым снегом, ничего не увидел, а фонарик остался в рюкзаке. При желании тут и человеку можно было пролезть, если ползком и у самой земли. Я окликнул - бобик, бобик, посвистел, и показалось, что-то ворохнулось в темном чреве развала и пахнуло застоявшимся духом псины.
Все-таки здесь, вопреки всем природным законам и животным обычаям находилось логово, наверняка собачье. Вероятно, овчарку бросили туристы, а может, сбежала из лагерной охраны, ушла подальше от людей, тут ощенилась и теперь выкармливает потомство, бегая за добычей в лес.
И потомство это станет вольным, свободным...
Однако такая история годилась разве что для слащавого рассказа: собака не человек, никаких законов не нарушает и строго блюдет обычаи, иначе бы давно выродилась и потеряла все наследственные инстинкты, как это произошло с царем природы.
Я приметил развал и пошел к рюкзаку за фонариком: события на Манараге развивались интересно, загадочно, начиная с восхода солнца, настроение было приподнятым, а розыскная привычка подсказывала - ничего не пропускай, все проверь до конца и только тогда делай выводы и совершай следующий шаг.
На месте, где оставил рюкзак, лежали только дрова, кем-то отвязанные и заботливо положенные на сухой камень. Не веря глазам своим, я покрутился на площадке, заглянул в щели и сел: коли нет, значит уже не будет, сквозь землю он не провалится....
Тот, кто взял рюкзак, не исключено, сейчас видел меня, оставаясь сам незримым, и ведь смеялся, гад, наблюдая за суетой! Отвлек собакой и стащил сразу все - теплую одежду и главное, продукты, таким образом поставив крест на моей экспедиции. А там было запасов при экономном расходе на неделю, успел бы отыскать Ледяное озеро, поймать золотую рыбку и на обратную дорогу бы хватило...
Но удочек и складного спиннинга теперь не было, даже веревку и брезент упер, сволочь! И главное, десять пачек сигарет!
Чтоб ты подавился, гад!
- Эй ты, иди сюда! - крикнул я и не услышал своего голоса, потерянного еще на восходе, перед чашей, откуда в космос уносились солнечные протуберанцы.
А в голове вчерашнего инспектора уголовки одна за одной проносились версии, пока мысль не сосредоточилась на одной - беглый зек, благо что лагерей в Коми АССР хватает. Ушел в горы, спрятался, одичал и теперь обворовывает туристов. И собака с ним работает на пару: привел откуда-нибудь, брошенную подобрал, сама прибилась. А может, когда деру дал, овчарку пустили по следу, а зек ее смирил, приручил и сделал своей. Обитает здесь несколько лет, научился ходить, не оставляя следов, есть сырую пищу, жить без огня, потому и дрова не взял - эдакий уральский Тарзан...
Нет, и эта версия не годилась, тоже литературщина, причем, американского пошиба.
Я еще не мог поверить, что все кончилось, ходил по развалу и пинал камни. Мне было хорошо известно, что бывает с человеком в условиях горно-таежной местности, если он остался без продуктов и ружья, а до ближайшего жилья, где есть люди, четыре, пять дней хода.
Голодному же чуть ли не в два раза больше. Конечно, можно надеяться, подберет моторка на реке, но... сидеть и ждать у моря погоды?
А в рюкзаке были три, еще дедовых, блесны, сделанные из серебряных полтинников двадцать четвертого года...
Да, можно подняться к зубьям Манараги, пока есть силы, и с единственной целью - увидеть Ледяное озеро, сориентироваться, и уходить, нет, немедля бежать обратно, в Косью. Деньги на обратную дорогу есть, можно на них закупить продуктов, снасти и вернуться назад, хотя бы для того, чтоб отыскать этого невидимого ворюгу с собакой...
Уходить, когда до вершины остается меньше полкилометра, нет смысла, потом жалеть буду, что дрогнул, смалодушничал и не пошел - до скал рукой подать!
Это я уговаривал себя так, увещевал и даже стыдил. Вот она, зубчатая красавица, стоит и подпирает небо. Ос-танцы похожи на толпу людей, выстроившихся у обрыва лицом на восток. Если долго смотреть, начинает казаться, будто они шевелятся и машут руками...
Может, это и имел в виду дед, когда говорил, будто на горе люди стоят?..
Воспоминания об этих словах моего деда как-то неожиданно взбодрили, я все-таки полез в гору, и оказалось, без рюкзака куда ловчее пробираться между камней и переваливать через огромные осколки скал. Так я прошел больше часа, пока не заметил, что все это время почти неотступно думаю о деде, а точнее, уже привычно за последнее время гадаю, что он делал возле Манараги, дед-то мой? В турпоход ходил?..
***
Насколько я знал семейную историю, занести его сюда могло только в гражданскую войну, ибо в Первую мировую он оказался где-то возле Смоленска, во вторую - на Кольском полуострове. А что касается службы у белых, то здесь почти все покрыто мраком. Период, когда бабушкин брат увел его к красным партизанам, можно было исключить, все на глазах, все прозрачно. А вот где его носило два с половиной года, каким образом попал на Урал, к этой горе и с какой целю? С чего это вместо каптерства на пакгаузах, если верить его официальной версии, он валька, начиненного золотом, ловил в Ледяном озере где-то за рекой Манарагой?
И если ловил, то куда это золото потом девал, коли прибежал с войны завшивевший?
Вот вопросы, которыми бы следовало заняться давным-давно, когда еще в милиции работал. Мог ведь вполне официально разослать запросы куда угодно! И обязательно бы получил ответы... Нет же, и в голову не пришло! Чуть освободился, сразу поехал на Манарагу, так сказать, быка за рога, а ведь учили же дурака в уголовке: сначала следует накапливать компр-материал, завести оперативное дело и стаскивать туда всяческую информацию, прямую и косвенную, и лишь потом реализовать ее.
Ну что он, белогвардеец, делал возле Манараги? Бои здесь вряд ли были, гражданская война шла вдоль железных дорог, на обжитых местах, возле городов и крупных сел. Может, красные загнали их сюда, и он партизанил? А факт этот скрывал, чтоб не назвали его непримиримым врагом Советской власти и не шлепнули?
Неужели только золотую рыбку ловил?
Мысли эти так захватили, что я начал забывать об украденном рюкзаке и не заметил, как добрался к основаниям высоких останцев на вершине. Лишь тогда сел и осмотрелся так, будто до того меня с завязанными глазами вели...
Дух зашелся, насколько высоко было! Казалось, весь Урал лежит под ногами, и насколько хватал глаз - синяя, бесконечная даль, будто с самолета. Сквозь частокол лиственниц речки поблескивают, отражая солнце, а само оно зависло над головой, так что пропали тени от высоких каменных столбов на вершине. Состояние это было не таким потрясающим и эффектным, как утреннее, когда восход расплавил полгоры и слил ее в чашу, однако зачаровывало ничуть не меньше, только вот орать не хотелось, напротив, - молчать и не шевелиться.
Часы показывали без десяти двенадцать, по всем правилам, солнце должно быть на юге, в стране полуденной, как говорили древние, но почему-то оно висело в абсолютном зените, как на экваторе. С чего бы вдруг, если здесь Приполярный Урал?
Или это тоже оптический обман, игра света и тени?
Поднявшись к ближайшему останцу с южной стороны, я увидел внизу обнаженные скалы и осыпи, голова закружилась, в солнечном сплетении неприятно заныло, будто я уже сорвался в эту пропасть и лечу. Мало того, почудилось, камни подо мной зашевелились, поплыли вниз. Я отполз от края осыпи и забрался на скальный выступ. Гора как-то сразу успокоилась, утвердилась и стало ясно, отчего возникло такое ощущение: невысоко над горой плыли легкие облачка. Не видя неба, я чувствовал их движение. Справа от меня было что-то вроде ущелья, слева - гигантский "амфитеатр", а еще дальше и ниже текла река Манарага, которая почему-то скоро без всяких на то оснований (ни равнозначного притока, ни озера) превращалась в Косью - редкий случай, географический казус.
Но сколько я не вглядывался вдаль стороны полуденной, не то чтобы Ледяного озера, но вообще никакого более менее значительного водоема не увидел. Ни белого, ни красного, ни синего. Ледники были на склонах и вершинах, ручьи и маленькие речки текли в Манарагу. И ни одного ни горного, ни пойменного озера, насколько хватает глаз.
На всякий случай я проверил направление по компасу (солнце по-прежнему висело в "экваториальном" зените) - все верно, передо мной юг. А озера нет, или его без оптики не увидеть.
Неужели у деда был бинокль? Или он смотрел с останца?
Я прошел по гребню горы (если это можно было назвать гребнем), задирая голову на вершины скал, однако без веревки и хоть какого-нибудь снаряжения забраться было трудно или вообще невозможно.
Тем более, невозможно представить, чтоб мой дед когда-нибудь еще и скалолазом был...
Однако при всем том разочарования или растерянности я не чувствовал, а досаду убаюкивал тем, что время позволяет спуститься по юго-западному склону, обогнув скалистое ущелье, перейти через реку Манарагу, а там строго на юг и через восемь верст (или километров - дед по старинке считал верстами) упрусь в Ледяное озеро.
Дед говорил, приметное оно, на другой стороне отвесные скалы полукружьем стоят...
Обидно уходить, когда заветное "наследственное" озеро с вальком совсем рядом.
Я не хотел терять времени, помня, что рюкзак сперли и продуктов нет, однако спускаться вниз сразу же не хотелось. И я пробыл у подножия скал еще около часа - все-таки, покорил самую высокую вершину в своей жизни и надо бы насладиться победой, посмаковать восхитительный миг (который на самом деле таковым не казался). Я снова перешел к восточному склону Манараги, почти неприступному из-за осыпей, поднял и бросил вниз тяжелый камень, но лавины не вызвал, так, глухо постучало и затихло. Солнце теперь сместилось к западу и с северо-востока, оттуда, где между останцев лежал высокий, не растаявший еще ледник, небо отчего-то по-ночному потемнело и вроде даже звезды начали мерцать, однако когда я выкарабкался по развалу из-за группы скал, увидел низкую тучу, наползающую прямо на меня, если не снежную, то уж точно грозовую - еще десять минут назад ничего не было!
Это подстегнуло, и чтобы не оказаться накрытым синюшным мраком, я начал спуск тем же маршрутом, которым поднимался.
Тяжелая, напитанная еще не пролившимся дождем, нижняя кромка тучи была сырой, холодной и одновременно душной. Я стремился вырваться из обволакивающих сумерек, прыгал с глыбы на глыбу или катился по щебню почти наугад и все-таки не успел. И не понял, что попал в грозу, точнее, оказался в грозовой туче. Неожиданно окружающее пространство засветилось дневным светом, как если бы я очутился внутри неоновой трубки. Волосы на голове встали дыбом, кончики пальцев, губы и нос закололо, будто я сунулся в льдистый снег, а во рту стало кисло. Потом свет погас и где-то внизу загрохотало, словно потрясли гигантский лист жести.
Скорее интуитивно, как от близкого взрыва на войне, я запоздало упал под наклоненный камень, распластался всем телом по земле, затих и только сейчас сообразил, что вокруг меня сияние грозы, электрическое поле, своеобразный конденсатор, из которого потом выскакивает молния.
И сразу стало страшно, я приподнял голову, чтоб увидеть, откуда прилетит, и в этот миг пространство бесшумно раскалилось, вспыхнуло и опять же громыхнуло где-то далеко. Из меня посыпался безголосый и нескончаемый мат.
Не знаю, откуда это пришло, вероятно, от деда, отъявленного матерщинника и безбожника, но в критических, опасных ситуациях я забываю весь словарный запас, остается три-четыре коренных и емких слова, из которых удивительно длинно, неповторимо и образно складываются целые речи. Попробуй вспомнить потом, как и чем вязал их - ничего подобного! Знаю только одно (и это много раз проверено), человек в это время мобилизуется, практически все действия переходят в область интуитивных, движения становятся скупыми, точными, без тряски и всяких излишеств.
И обычно достигают цели.
Небо над головой стало с овчинку в прямом смысле и теперь светилось почти беспрерывно, однако невидимые молнии били куда-то в горы. Наконец, заметил, как грузная туча нехотя приподнялась, будто стельная корова, медленно оторвалась от развала, где я лежал, и подпрыгнула сразу метров на пятьдесят! И в тот же миг полыхнула, ударил слепящий, будто от электросварки, свет. Отвернуться или закрыть глаза я не успел и на некоторое время ослеп и почти оглох, потому что одновременно в ушах треснуло и в голове зазвенело.
Наверное, это была какая-то форма контузии, поскольку резко закружилась голова, из носа потекла кровь, где-то в затылке застрекотали кузнечики. Я долго не мог закрыть перекошенный рот.
Через некоторое время я поморгал, стал видеть сквозь слезы, хотя в глазах царапал песок, коловращение пространства постепенно замедлилось, так что я смог сесть, держась за камни мозжащими руками.
Туча будто бы подскочила еще выше, наверное, чтоб перевалить Манарагу, накрыла останцы, и я увидел, как между их смутных очертаний заходили сдвоенные, шипящие зигзаги молний, словно между электродами, и почудилось, скалы зашевелились, словно живые. Вниз с глухим стуком запрыгали камни, выбивая снопы искр. Я все еще матерился, однако в голове уже застучалась мысль отчаяния - скорее бы это все кончилось!
***
Спустя пятнадцать лет после этой грозы я впервые попал под многочасовой артиллерийский обстрел, сразу же вспомнил Манарагу и успокоился, хотя матерился еще яростней, потому что лежал не на твердыни, а сидел на пятнадцатом этаже Дома Советов, где горел склад оргтехники и расходных материалов и здание после каждого залпа сотрясалось и раскачивалось.
И тоже клокотала в мозгу та же мысль - скорей бы кончилось!
Треск и шипение в скалах продолжалось минут пять - семь, пока клубящееся дымное марево, так не уронив ни капли дождя, переваливало через гребень. Сразу резко посветлело, словно с горы сдернули занавес, и еще через минуту так же внезапно вспыхнуло солнце. Я вскочил и непроизвольно крикнул: ура!
Даже голос прорезался.
***
Спускался на одном дыхании, без перекуров и остановок - по сути, бежал с Манараги и лишь внизу хватился, что в руках ничего нет, подаренный Стрельниковым молоток потерял неизвестно где и когда. Вещь была памятная и очень полезная, но забираться обратно и искать меня бы уже никто не заставил. Я смотрел на вершину, и по спине прокатывался озноб: или так совпало, или гора эта была не такая простая, как и само это место на Земле.
Снова вспомнил, что меня обокрали, и что надо бы уходить отсюда, однако где-то за рекой Манарагой находилось Ледяное озеро, а солнце стояло еще высоко и на небе ни одной тучи, даже грозовая свалилась за хребет и будто растаяла. Да и есть не хотелось, я лишь напился, умылся из ручейка и выбрался на столообразный хребет.
Река Манарага была внизу и, кажется, совсем близко - километр, не больше. А на той стороне, в глубине гор отлично видны скалистые полукружья, напоминающие каменные карьеры - подъем, вроде, пологий, особых барьеров не видать - два часа хода, не больше.
И лишь когда спустился к берегу, понял, что реку вброд мне не перейти, хотя сверху она выглядела не такой уж быстрой и глубокой: ночной снег растаял, и так высокий уровень подскочил еще, бурлящие камни на шивере оставляли пенные следы - даже если воды будет по пояс, в таком потоке на ногах не удержаться.
Будто кто-то преграды мне ставил, испытывал или не пускал дальше, а я уже вошел в азарт и отступать не мог - не зря родители называли меня упертым. По пути к Манараге плоты вязал уже дважды, переправляясь через речки, но тогда у меня была веревка и топор; тут же осталась одна, хоть и заточенная, саперная лопатка. Свалить ею сухостойное дерево можно, однако на каждое уйдет час, не меньше, а потом, вязать бревна нечем...
Я прошел вверх по течению, подыскивая валежник, и за верхним бьефом шиверы неожиданно увидел избушку на вырубке. Издалека показалась жилой и целой, вроде бы даже труба есть, но когда приблизился, оказалось, ни крыши, ни дверей, один обветшавший сруб.
Зато рядом сколоченный из плах стол со скамейками, большое старое кострище, консервные банки, бутылки - короче, типичная стоянка современного человека. Последние ее обитатели водку пили "Московскую", курили сигареты "ТУ-134", по утрам кофе в зернах варили, но самое интересное, ели слишком простую пищу, солдатский сухой паек - гречка или горох с мясом, тушенка - продукты, которые попадали на склады геологов, лесоустроителей, топографов и прочих полевых экспедиций из обновляемых мобзапасов.
Этим туристам сухпай попал достаточно свежий, всего-то шестидесятого года выпуска, а я ел на Ангаре и пятьдесят четвертого. И подвоз грузов у них явно был: ладно, ящик водки, разбросав по рюкзакам, еще можно принести в горы, но тащить с собой два килограмма гвоздей на сто пятьдесят, чтоб стол и скамейки сколотить, вряд ли кто додумается. А тем более, никто и никогда не понесет мотопилу, чтоб дрова пилить для костра - эти снимали венцы со сруба, аккуратно резали на чурки и жгли в костре, о чем свидетельствовали головни и опилки.
И все это не раньше прошлого лета...
Плот я собрал из того же сруба, сколотил выдернутыми из разобранного стола гвоздями. И тут возникла мысль, после того, как найду Ледяное озеро, спуститься на плоту вниз, сплавиться насколько это возможно, хотя бы до слияния Косью с Вангыром. Реки еще полноводные и потому относительно спокойные, в конце концов, через шиверы плот можно провести у берега. В любом случае скорость движения будет раза в два выше, чем идти пешком, и расход энергии во столько же раз меньше.
Плыви да на берега посматривай, как говорил дед...
Но плот на гвоздях - слишком ненадежная конструкция для горных рек, надо обязательно перевязать его чем-то, чтоб не развалился на подводных камнях. Я пошел искать веревку или проволоку, и сначала сделал оборота четыре вокруг стоянки, постепенно увеличивая радиус, ничего подходящего не нашел, если не считать множества полосок жести и перегоревших в огне замков от специальных зеленых ящиков, в которых обычно перевозят всевозможные приборы, оборудование, взрывчатку и оружие - все это оказалось в старом кострище. Если люди приходили сюда отдыхать, значит, лазили по скалам, ставили палатки, рыбачили, катались на резиновой лодке. А значит, использовали страховку, лески, веревочные растяжки, шнур, шпагат, а все это часто рвется и теряется.
Тут же, как на зло, ни кусочка, ни обрывка! Будто туристы сидели на берегу достаточно долгое время, пили водку, кофе и жрали солдатский сухпай...
Сдвоенную черную проволоку увидел неожиданно и сначала принял за сухую ветку голубичника. Но внимание привлек потревоженный темный грунт, еще не успевший затянуться мхом и выцвести от дождя и солнца.
Свернул к этому месту и с восторгом обнаружил рваный конец армейского телефонного провода, торчащий из земли. И не один - еще несколько витков выступило из мелкого гравия, размытого весенней водой. Я вытащил его метров двадцать, пока что-то не заело. Тогда я раскопал яму и достал несколько перепутанных бухт разнокалиберного провода, пожалуй, около полусотни использованных батарей в виде кубиков, десяток щелочных аккумуляторов, какие-то металлопластиковые коробки, радиотехнические детали, обрезки цветного кабеля и изоляции - одним словом, несгораемый мусор, закопанный в яму.
Мне бы идти вязать плот, а я присел возле этой свалки и отчего-то внутренне насторожился.
Хорошо оснащенные "туристы" особой чистоплотностью не страдали, банки, бутылки и бумага валялись повсюду, а вот этот специфический мусор почему-то тщательно был собран и зарыт. То есть, убран от глаз подальше, чтоб всякий прохожий, глянув на стоянку, сразу определил, что стояли тут обыкновенные советские туристы, а никак не геофизики, которые, судя по батареям и пустым коробкам из-под детонаторов, проводили сейсморазведку.
Ну, проводили, а зачем это скрывать? Нигде не скрывают, оставляя после себя километры размотанных проводов по тайге, пустые ящики из-под взрывчатки (а то и полные!), буровое оборудование, сломанные вездеходы и прочие промышленные отходы.
В тот момент я почувствовал, что это некий сигнал, но с Ледяным озером его не связал. Переплыл на другую сторону Манараги, заодно испытав плот, поднялся на берег, встал спиной к горе, взял азимут строго на юг и пошел. И пока двигался в гору, ничего, кроме дальнего хребта не видел, и даже когда поднялся на плато и передо мной открылся "карьер" в виде амфитеатра, озера еще не было.
Оно открылось внезапно, лежащее в глубокой чаше, большое, слегка вытянутое и слепяще-белое. Да, я видел его с Манараги, но принял за ледник! И немудрено, поскольку в июне оно еще было покрыто льдом, очень похожим на глетчер, и только узкая полоска белесой воды вдоль береговой кромки (лед оторвало от берегов), выдавала озеро.
Я пришел сюда не первым. Старые кострища и перепревшие подстилки от палаток попадались часто, особенно по отлогому берегу, и еще чаще все те же консервные банки и битые бутылки.
Эта загаженность как-то меня отрезвила, все равно, кто тут был, хорошие люди или плохие, туристы или рыбаки, охотники или геофизики, главное, исчезла первозданность, все время существовавшая в моем воображении.
Успели вперед меня, залезли, истоптали, выдернули дедово удилище и выловили всех золотых рыбок...
Спохватился я, когда почти на треть обогнул озеро и оказался под скалами. Внимание привлекла темная полынья метрах в пятидесяти от берега, вернее, ее правильная, четырехугольная форма (были и другие, в основном округлые), и вода там отсвечивает красным. Для рыбацкой лунки слишком велика, разве что невод запускали. Но какой дурак станет тянуть глубокое горное озеро? И даже если таковой отыскался, то почему нет других прорубей, для протяжки фалов, и где майна, чтоб выбрать невод с рыбой в конце тони?
И что за пятнышко на воде? Будто кровь... Лед от берега давно оторвало, изъело солнцем, однако по камням можно было спокойно перебраться на него, что я и сделал. Судя по видимым сколотым торцам многослойного ледяного поля, за зиму здесь нарастал панцирь, толщиной более полутора метров, за счет род-пиков или неких приливов, образующих наледь, впоследствии замерзающую. Должно быть, дед верно сказал: на первый взгляд, замкнутое, "закрытое" озеро имело подземные ключи, ручьи, речки, живые во все времена года. И если так, то его можно было отнести к карстовым озерам, уровень воды в которых может колебаться до десятков метров.
Ботинки у меня были невысокие, потому брел осторожно, и все-таки начерпал, ступая в глубокие промоины: тут и вода имела необычные оптические свойства, озеро в третий раз сменило оттенок, стало зеленоватым, а наледь бесцветной и невидимой, только алое пятно у полыньи разрослось, будто там кровоточащая рана-Майна была выпилена мотопилой, а возле нее я увидел предмет, который никак не мог принадлежать рыбакам с неводом - подводный фонарь, обтянутый ярко-красной резиной. Видно, он упал в снег, оказался потерянным или забытым и весной, нагреваясь на солнце, вытаял под собой небольшой аквариум, повторяющий собственную форму.
Но больше всего удивило, что фонарь еще светил!
Похоже, рыбаки тут побывали серьезные, с водолазным снаряжением, и ловили они наверняка золотую рыбку, вот и место приметили - не "моржи" ведь тут купались!
Вернувшись на берег, я тщательно осмотрел откос напротив полыньи, вросшие в землю камни, траву, поднялся выше, к развалам и проверил все подозрительные места, пока не понял, что ищу прошлогодний снег. И все-таки один след нашел - черный, веерообразный отпечаток на довольно высоком и плоском камне. Обычно такой остается от резинометаллической гусеницы снегохода при резком развороте...
Приезжали сюда зимой, причем, ближе к ее концу, по большому и плотному снегу, однако у меня опять началась "шейная" болезнь, я непроизвольно оглядывался, вертел головой чуть ли не на сто восемьдесят градусов. И еще почувствовал усталость: день не кончился, а столько всего произошло и случилось, что шел явный перегруз, я начинал тупеть, уже не хотелось ни о чем думать, общий тонус падал, наваливалось равнодушие. И вместе с тем острее становилось чувство опасности.
Это можно было расценить, как одичание. Когда беззащитный человек бесконечно испытывает природную стихию, притупляется разум и напротив, начинают развиваться инстинкты, а первый из них - самосохранение...
Если бы сейчас на пути мне попался чей-нибудь рюкзачок с продуктами, я бы тоже спер его не задумываясь, потому что вместе с усталостью подпирал голод. А тут еще солнце, долго висевшее в зените будто над экватором, свалившись за Манарагу, так незаметно и быстро стало опускаться, что восточная часть гор погрузилась в сумерки. Зубья на коварной красавице еще сияли, чуть севернее багровели тучи, а Ледяное озеро опять, будто хамелеон, поменяло окраску, превратившись в золотистое, причем, очень глубокого, мерцающего цвета.
Любоваться вечерними горами было некогда, сумерки и ощущение близкой опасности подстегивали. Я пошел обратным маршрутом, однако через сотню метров, оказавшись у края каменистой гряды, понял, что без солнца в окрестностях Манараги лучше не ходить. Было еще достаточно светло, так легкие сумерки белой ночи, но полностью изменилось ощущение форм, светотени стали обманчивыми: наступаешь, вроде, на твердь, а там провал, пустота. Хватаешься за грань глыбы - под рукой гладкая стенка. Трижды чуть не навернувшись, я опять ободрал локоть, по старому месту, и остановился с чувством полной беспомощности.
Будто первый раз в горы попал и вообще не умею ходить, тычусь, как слепой котенок!
А за рекой, на Манараге, все еще полыхает свет, и ос-танцы от него снова зашевелились, задвигали руками, - точно мужики залезли на гору и стоят, смотрят в мерцающее золотом Ледяное озеро...
Я вернулся к плоту, причаленному между камнями, однако замысел отплыть тот час же рухнул: в этом неверном свете горная река показалась буйной, стремительно - одна сплошная шивера! Что-то наподобие руля я сделал, привязав плаху от стола к "корме", однако она все время выворачивалась из воды и была непослушной, а управляться одним шестом с двумя кубометрами сколоченных и связанных в два ряда бревен не так-то просто.
Вместе с заходом солнца у реки стало холодно, я начал зябнуть и искать себе нору: под брезентовой штормовкой у меня олимпийка (раньше так назывались спортивные костюмы), футболка и больше ничего, свитер остался в рюкзаке, - и ноги мокрые. Найти топливо и развести костер было еще можно, да ведь сразу привлечешь к себе внимание, а где-то тут бродит ворюга и, поди, жрет мою тушенку с пряниками, гад!
Особенно пряники жалко, лучшая пища в маршруте, если еще с хлебом их есть, так и сытная...
Пожалуй, воспоминание о пище и воре с собакой толкнуло на решительный шаг - да что я боюсь? Так и буду сидеть всю ночь, трястись от страха и мерзнуть, а он будет сшиваться где-нибудь неподалеку и смеяться. На хрен, пусть этот дикарь боится!
Я поднялся повыше от болотистого берега, нашел место возле ручья, вдоль которого ходил к озеру и стал готовить ночлег. Лес тут был бедноватый, угнетенный, похожий на тундровый, однако заготовить настоящих дров на всю ночь было можно. Нарубил лопатой сушняка, собрал кое-какой валежник, хворост и запалил костер. И уже при его свете повесил ботинки и носки сушиться, после чего наломал лиственничных веток, сел к огню и стал есть хвою. Она распустилась недавно, была еще мягкая и кисленькая - сразу вспомнилось детство, когда мы с началом весны переходили на подножный корм и ели в лесу все подряд, от стеблей дикого горошка и колбы до сосновых почек и вот этой хвои.
Ведь и вкусно казалось!
Вместе с огнем незаметно исчезло повышенное чувство опасности, прекратился процесс одичания, я тихонько, исподволь начал прокручивать в памяти весь этот потрясающий день и уже приблизился к фаталистической мысли, что ночевать остался не случайно, завтра уйду к той точке, где был сегодня утром и еще раз посмотрю восход солнца над Манарагой. Эх, был бы фотоаппарат, да еще с цветной пленкой!.. Но его вместе с ружьем, приемником и бивнем украли еще из коляски мотоцикла возле УВД.
Между прочим, дважды в жизни лишался походного имущества!
Я открестился от ассоциаций, общипал хвою с последней ветки, перевернул ботинки на колышках и сел так, чтоб можно было дремать.
Единственное оружие, заточенную лопатку, положил под руку.
Наш ОМСБОН в военный период готовился для спецопераций - поиска и ликвидации диверсионно-разведывательных формирований противника. Проще говоря, мы должны были уничтожать группы "зеленых беретов", заброшенные в наш тыл. Мы посмеивались над собой и задачами, которые предполагалось выполнять, особенно, после просмотра спецфильмов, где показывали, как готовят американских диверсантов. Понятно, что снимали они сами и хотели нагнать на нас страху, и выглядело все эффектно, особенно тренировки в обстановке, приближенной к боевой, и психологическая подготовка.
У нас было все проще и, возможно, надежнее, как лом: раз в месяц нам показывали самбо, раз бегали на лыжах или совершали марш-бросок по дачным местам Подмосковья, правда, стреляли много и часто, в том числе ночью, кидали боевые гранаты. Однажды нас танками обкатывали и еще в учебке газом окуривали. Самое главное, учили драться подручными предметами, особенно саперными лопатками, и мне еще тогда понравилось это отличное оружие для рукопашного боя. Пожалуй, только штык устоит, а против шашки можно сражаться на равных.
Так что дикаря с дубиной, укравшего рюкзак, я бы сделал и тут же прикопал...
Холод с реки тянул по руслу ручья, скалы на Манараге все еще светились, хотя солнце зашло, и мне как всякому замерзающему, казалось, там тепло, и следовало бы остаться на ночлег у скал на вершине. Я так долго смотрел на эти светлые зубья, что сам себя загипнотизировал и уснул с ними в глазах. В сознание же затвердил сигнал: как только погаснет костер - проснусь.
Когда же я проснулся, скалы все еще сияли, разве что теперь с другой, восточной стороны - это означало утро!
И костер все еще горел, будто минут десять назад кто-то подбросил дров! Я не чувствовал холода, не продрог, босые ноги, вытянутые к огню, были приятно горячими. С реки по-прежнему дуло, в рассветном небе среди гор бодалась знобкая, фиолетовая туча, синий воздух напоминал зимний, морозный, на лопатке вон иней выступил!
А я, проспавший всю ночь сидя, с обтянутой спиной, не замерз!
Да, такого не бывало, хотя у костров в общей сложности я проспал года три кряду, зимой и летом. Просыпаешься через каждые двадцать минут, огонь или потух, или сильно разгорелся, то штаны тлеют, то дым на тебя повернул, все затекло, онемело, в глаза будто песку насыпали, сапоги или пересохли и скукожились, или сырые остались, а ведь с утра на работу, маршрутить. Это только в книжках пишут, как здорово спать у костра!
Тут же в теле радость, хочется вскочить, попрыгать, крикнуть что-нибудь, будто у родной матушки на перине спал. И ботинки сухие, носки искрами не побило...
И поймал себя на мысли, что не хочется уходить от этого ручья, оставлять прибежище, угнетенный, ленточный лесок, и снова лезть в каменные развалы. Судя потому, как невидимое солнце подкрашивало скалы на Манараге, мне уже давно надо было переправиться на ту сторону, уйти к западному склону горы, откуда вчера наблюдал восход, и стоять на плите. Я безнадежно опоздал, и потому забрался на камень тут же, возле ручья, с южной стороны, встал лицом к Манараге и стал ждать.
Прошло десять, пятнадцать минут, отчего-то вспомнилось, как стоял под окнами Надиного дома - это еще когда мы учились в техникуме и дружили, и тоже ждал, когда ее отпустят родители погулять часа на два (тогда держали ее в строгости). Как восхода солнца ждал...
Минуло полчаса, я уже видел, как разгорелись останцы, и им бы сейчас сплавиться, политься вниз, но они лишь зардели, как угли от ветра, и подернулись пеплом. Солнце выкатилось из-за восточного хребта и потянуло к с своему полуденному зениту.
Разочарование было таким, как в детстве, когда мы тайными ходами пробирались в клуб, прятались в досках за экраном и ждали кино, чтоб посмотреть его наоборот (с другой стороны экрана), а дядя Гена Колотов напивался с кем-нибудь еще до сеанса и засыпал в кинобудке...
Ладно, отрицательный результат - тоже результат...
Однако утешение было слабым, особенно когда вспоминал вчерашнее феерическое, неземное действо. Будто возле самого солнца побывал и увидел, как зарождаются, и как уходят в космос знаменитые протуберанцы, высвечивая его, может быть, на расстояние в десятки световых лет! Пусть даже меньше, пусть всего на нашу галактику или всего одну солнечную систему, но и в сильнейшем волнении я же успел высмотреть некие световые, объемные конструкции? Сейчас, во второй раз, я бы не орал от восторженного страха, не срывал глотку, а наблюдал с холодной головой и запоминал, запоминал все, если нет фотоаппарата. Мне вчера было страшно, потому что не знал сюжета, развития событий, чем все закончится...
Ладно, в следующий раз!
Я пристегнул лопатку к поясу, взял фонарь, постоял еще возле костра, набираясь тепла, и направился к реке, где стоял плот.
То, что это был выстрел, я не понял, эхо тут повторялось дробно, подумал, камень откуда-то свалился (их стук в выветренных горах слышен бывает часто), ко всему прочему, стрельбы я уж никак не ожидал. И лишь когда пуля срикошетила у моего лица и от глыбы по щеке брызнул песок, присел и огляделся.
Стрелок видел меня! Еще одна пуля взрыхлила спрессованный щебень у самых ног и будто подбросила - прыгнул за камень и на лету, от мощного удара в бедро, завалился на бок.
Напугаться не успел, только опять посыпался мат, пока что мысленный, правая нога двигалась и почти не болела, так, саднило немного, должно быть попало в мякоть и кость не зацепило. Я отполз за глыбу, там вскочил и побежал вниз, пригибая голову.
Откуда стреляют и из чего, понять было невозможно, всюду щелкало эхо и чудилось, бьют со всех сторон. Пролетев опасный открытый участок редколесья, заскочил под прикрытие гряды и несколько минут прыгал вдоль нее, затем резко свернул и полетел с горы к реке.
Если никто не преследовал, то я уже был вне досягаемости даже для автоматного выстрела, потому что на одном дыхании пролетел метров четыреста. Но все-таки спрятался в камнях и наконец-то посмотрел бедро - на бегу все щупал, нет ли крови - и ее почему-то не было.
Брезентовые брюки тоже оказались целыми, однако под ними саднящая боль медленно перерастала в ноющую. Тогда я расстегнул ремень и глянул на бедро - опухоль была величиной с ладонь и уже назревал синяк.
Обескураженный, я лежал в развале, прикладывал холодный камень к "ране", ничего не мог понять, и склонялся к тому, что сам навернулся обо что-то, например, сгоряча о тупой край глыбы, а почудилось, что пуля попала. Может, и не стрелял никто, просто такой звонкий камнепад, а нервы натянуты и у страха глаза велики...
Несмотря на большие сомнения, я осмотрелся, прежде чем встать, и лишь после того пошел к плоту.
С восходом солнца гнус становился гуще, плотнее (наверху все время обдувало, а ночью из-за холода вообще не было комаров).
Накомарник же и диметилфталат уплыли вместе с рюкзаком.
Осторожно и с оглядкой я забрался на плот, выдернул шест, заклиненный между камней, и оттолкнулся от берега. Река тут же подхватила, плавно понесла мимо берегов и спохватился, что сделал глупость: если стрелявший шел моим следом, то сейчас я для него - открытая мишень! Стоя на коленках, я начал подбиваться к противоположному берегу, однако неповоротливый руль лишь разворачивал плот на месте. Тогда я лег за бревно, приспособленной вместо сиденья, спрятал голову, и видел лишь узкую прибрежную полоску, проплывающую мимо.
Прошли сутки, как я появился в пределах Манараги, но уже случилось все, что может случиться с человеком за целую жизнь. Вчера гора восхитила меня на восходе, потом обворовала, на вершине чуть не убила грозой и напоследок бросила камнем...
Может, чужой я здесь человек? Не принимает?
Тогда почему согрела ночью и дала выспаться?
Через некоторое время я стал приподнимать голову и смотреть назад, но гора прикрылась хребтом и должна была появиться снова, когда я обогну мыс и попаду из Манараги в Косью. На обоих берегах не было никакого движения, никто не преследовал меня, и я постепенно стал распрямляться. Нога болела все сильнее, так что уже притронуться к отеку стало невозможно. Приходили всякие глупые мысли - стреляли из мелкокалиберки и рана сразу затянулась от опухоли, так что не заметил, или, например, шприцем с какой-нибудь химией, как стреляют крупных животных, чтоб усыпить.
Отмахивался от глупостей, а голова предлагала новый вариант. Я снова осмотрел вздувшуюся ногу: кровоподтек уже разливался на половину бедра и горел огнем, всякое движение вызывало боль. Снял футболку, намочил в холодной воде и приложил к ране - вроде лучше...
И тут увидел на кожаном чехле лопаты дыру с рваными краями...
Чехол я шил сам перед этой поездкой, причем, из подметочной толстой кожи, чтобы обезопасить себя от заточенного лезвия. Судя по дыре, стреляли из двенадцатого калибра, не меньше, но когда я достал лопатку с округлой вмятиной, то выпавшая полурасплющенная пуля оказалась обыкновенной "макаровской"...
Гора Солнца
С Урала я вернулся только с тремя жгучими и острыми вопросами - кто стрелял, что занесло деда в район Манараги, и кто ловил золотую рыбку, опускаясь со льда в озерные глубины?
Сине-желто-малиновый фингал на бедре был свежим, болезненным, и еще не омертвевшая ментовская натура требовала выяснения обстоятельств, поиска причинно-следственных связей или хотя бы отмщения, поскольку стрелявший не пугал - завалить пытался, и завалил бы, коли не саперная лопатка.
Но за что?!
Сразу же после возвращения в Томск я бросился добывать снаряжение и оружие для новой экспедиции, поклявшись себе больше никогда не ездить в горы хотя бы без ружья. Но длинная двустволка всегда создавала проблемы на вокзалах, в поездах да и в маршрутах. Карабин покороче, да пойди получи на него разрешение, если ты под прицелом КГБ и увольнялся с шумом. Пистолет - вот что нужно было, тем более, я привык к нему в армии и в милиции. Я знал, у кого из бывших сослуживцев есть "левые" стволы, и сам однажды мог преспокойно затемнить восьмимиллиметровый офицерский маузер (не путать с киношным комиссарским маузером), когда его добровольно принесли сдавать строители, нашедшие клад при сносе старого деревянного дома. Ведь и сорок патронов было к нему, так нет, не думал о будущем, оформил протоколом и ствол ушел в переплавку.
Теперь кусай локти!
Мишка Шалюк из ОБХСС, имевший старенький ТТ, отказал сразу, дескать, самому нужен, езжу к родителям в деревню поросят бить. На самом деле он побоялся отдать, наверное, слышал, что мной в КГБ интересуются, да и я уже не работал в милиции. У опера Журавко, с которым мы несколько раз работали в одной группе по сложным делам, была отличная заводская самоделка под макаровский патрон, найденная при задержании черемошенской шпаны - скинули в снег, поди, разберись, чей, а отпечатков нет. Когда я пришел к Журавке с деликатным разговором, он сразу же занудил, мол, зачем тебе, завалишься со стволом, а это срок, лучше живи спокойно. Рассказать ему, как охотились за мной на Урале, я не мог из конспиративных соображений.
Короче, в двух местах получил отлуп и пошел в третье, весьма надежное - к нашей капитанше Зоеньке, сорокалетней даме, сидевшей много лет дознавателем. Ее муж когда-то работал начальником угро в одном из райотделов, но спился, уволился, разошелся и оставил жене револьвер, который она иногда таскала в сумочке, потому что дознавателям казенный для постоянной носки не полагался. Возле Зоеньки я провертелся часа три, смешил и чуть ли не до слез доводил, а кроме кокетства и жалоб на одиночество ничего не получил.
Оставался последний вариант, самый ненадежный - реализовать полученную еще до ссылки информацию, что у гражданина Махова, проживающего в поселке Степановка, есть винтовочный обрез, который он хранит в голубятне. Этот донос был устным, по оперативным бумагам не проходил, и возможно, оружие у гражданина так и не изъяли, конечно, если это был не навет на честного человека. Ради такого случая я сбрил отросшую бороду, обрядился в форму, не отнятую после увольнения, и отправился в Степановку.
Едва попал за ворота частного дома Макова, понял, что гражданин слишком далек от честности. Увидев меня, он кинулся к летней кухне и был взят с поличным, то есть, с самогонным аппаратом. Обнаглел и гнал средь белого дня, и на весь переулок несло специфическим запахом.
Глаза у голубятника забегали, он искал способ наладить контакт, но при этом держался довольно смело - мужик битый и мятый жизнью. Я не стал долго его манежить и предложил подняться на голубятню, чтоб посмотреть, что у него спрятано под ящиком с пшенкой. Он еще и психологом оказался, сообразил, что можно договориться, мол, я становлюсь полезным для милиции, а обрез сам принесу. И сразу же спросил, кто его вломил (а сделал это его двоюродный брат, которому он не давал выпить, прохиндей еще тот). Разжигать ссору между родственниками я не стал, поднялся вместе с ним в синюю будку на столбах и вытащил из-под ящика настоящий кулацкий, но усовершенствованный обрез (мушка и прорезь припаяны на медь, стрелять готовился прицельно) с кульком боеприпасов - все заботливо смазано и готово к бою - даже патрон в патроннике. Он понял, что я сделал ошибку, не позвал понятых, и стал наглеть (жена его в это время убрала все с кухни). А я изобразил неопытность и с обрезом будто бы побежал к соседям...
Однако это важное дело, добыча ствола, оказалось второстепенным, когда начал готовиться ко второй в это лето экспедиции и собирать снаряжение. Я здорово нахлестался мордой об лавку на Урале, все оборачивалось слишком серьезно, чтоб ехать без подготовки и с пустыми руками. Обязательно требовались спальный мешок, палатка, бинокль, фотоаппарат (без этого не работа) и плюс много других важных вещей, как например, теплая, зимняя одежда и хороший запас продуктов. На обратном пути поклялся себе, что в следующий раз меня голыми руками не возьмут, буду сидеть на Манараге, пока не разберусь во всех явлениях, происшествиях, а так же с незримыми ворующими и стреляющими обитателями. Само собой выяснилось, что катастрофически не хватает денег, точнее, их вовсе нет и взять их абсолютно негде, а ценную вещь, мотоцикл, я продал и проел, еще работая в милиции.
Ну не у отца же просить!
Конечно, с миру по нитке и с протянутой рукой кое-что можно было подсобрать, на спортбазе техникума выпросить спальник и палатку (все-таки четыре года занимался спортом, выполнил норматив кандидата в мастера по пулевой стрельбе). Можно сунуться и в городской ДОСААФ, где меня знали, в политех, за чью команду выступал не один раз, да ведь каждому дающему придется что-то врать, куда и зачем снаряжение. Народ кругом хоть и добрый, не свое, так не жалко, но осторожный, бдительный, дать-то даст и тут же тихонько шепнет кому следует - это я знал точно! - так что на дурака не проскочишь. А конспирация должна быть максимально полной, иначе опять приделают "хвост" и будешь сидеть дома, пока не отпадет. Я и так рисковал, выклянчивая оружие, и было удивительно, что прошло десять дней, а никто еще не сдал.
Подергавшись таким образом, постепенно понял: еще одна экспедиция в этом году не состоится и начал уговаривать себя, что спешить не нужно, что сейчас у меня сердце гневом горит и голова объята примитивным чувством мести, оттого и рвусь снова к Манараге. А надо посидеть зиму, подумать, может, кое-какие ответы найдутся относительно судьбы моего деда, наконец, устроиться на работу и накопить денег, чтоб не побираться и не выдавать намерений.
С трудом, но уговорил, стиснул зубы и пошел в Томскую комплексную экспедицию геологом, на съемку. Был июль, полевой сезон в разгаре, а работали на территории, куда входила и моя родина, так что немного воспрял - очень уж соблазнительно было посмотреть в разрезе берег Божьего озера, скважину там проткнуть, поставить сейсмо-, электро-или хотя бы радиоразведку (с геофизиками договориться легко и причин не нужно объяснять). О гравиоразведке и мечтать было нельзя, ею занимались специальные партии, работающие на военных, а она-то могла показать самый интересный результат.
Из всего задуманного удалось лишь буровую затащить на старую вырубку, да спустить в скважину радиометрический зонд. И ровным счетом ничего не обнаружить, даже воды не было, хотя глубина скважины около сотни метров. Только глина и сухой песок.
Проработал я до октября, и когда закончился полевой сезон и впереди замаячил тоскливый камеральный период, загрустил, однако судьба приготовила новый сюрприз. Главный инженер экспедиции, плут и мошенник, взял да украл с территории базы водонапорную башню, из которой себе дачу построил. Мужики знали, что я работал в уголовке, вот и пожаловались. Не отжившая ментовская натура и литературные увлечения соединились, я написал фельетон в областную газету, его там взяли и опубликовали. И словно бомба разорвалась. У меня сразу появилась куча сторонников - кто против воровского начальства, и врагов - само начальство. Меня стали жрать живого и не вареного, и тогда я опомнился, ведь пришел денег на экспедицию подзаработать.
Всадили партийный выговор (за то, что с гонорара за фельетон не заплатил взносы!), лишили премии, очереди на квартиру будто бы за пьянку (и будто бы когда-нибудь она дошла!), из геологов перевели в техники (согласно диплому) и навалили столько работы, что должен был упасть через месяц.
И зря раздразнили - напрочь забыл, зачем пришел в экспедицию, наведался к ребятам в ОБХСС, которые сбросили мне хорошую информацию и появился еще один фельетон, совершенно убойный. Лишь тогда начальство решило проверить, откуда я пришел и сделало вывод, что меня специально подсадили. Однако терять им было уже нечего, слишком много украли, потому решились на крайность. В декабре забросили вертолетом на старую скважину, будто бы керн задокументировать, и разумеется, забыли. До ближайшего жилья полтораста верст тайгой и болотами, промерзающими лишь к февралю, карты нет, лыж нет, ружья нет и продуктов на сутки врастяжку. Хорошо мои сторонники заподозрили неладное, всполошились, прибежали в редакцию, там забили тревогу, разыскали командира экипажа вертушки, который забрасывал, и на четвертые сутки сняли меня с точки.
И неожиданно предложили работу в газете, да мало того - освободившуюся служебную квартиру в деревянном доме (кстати, бывшем до революции конюшней). Тогда я еще не знал, что это за ловушка, с удовольствием сунул голову и лишь к весне осознал - повесть "Хождение за Словом" никогда не допишу, поскольку тему зацепил серьезную, но форма мала, напрашивается роман. Но куда там, браться за большую форму, если прожорливая газета съедает силы и время, и месяца никак не выкроить, чтоб съездить в экспедицию с археографами, по старообрядческим скитам.
И еще понял, что к лету на Урал не попаду, поскольку заработанные деньги потратил на обустройство жилья - полы провалились, крыша течет и печь дымит, а неистребимая крестьянская натура протестует, не терпит разрухи и беспорядка.
Короче, душа разрывалась, каждый вечер думаю об экспедиции и уже хожу по уральским кручам, на утро встаю с угрызениями совести - редакцию не бросишь, иначе окажешься на улице, квартира-то ведомственная, а я уже привык к своим стенам...
Опять себя утешил: съезжу к старообрядцам, допишу роман и наконец-то раскручу своего предка, докопаюсь до истины, выясню, зачем и почему он оказался возле Манараги. А кто стрелял в меня и рыбачил в Ледяном озере, оставлю на будущее, разберусь на месте.
Чуял, засасывает трясина, жмет бытовуха и туманится, меркнет величественный образ Манараги.
Однажды просидев всю ночь над рукописью, наутро не вышел на работу. Из газеты прислали узнать, что случилось, и я как-то просто и легко сказал, что больше вообще в редакцию не пойду, мол, не нравится журналистика, выпивающая из человека кровь, силы и мысли. Скоро меня уволили из газеты, выгнали из квартиры и я вновь, ненадолго ощутив призрачную свободу, параллельно со "Словом", начал делать литературные наброски о моем деде. Точнее, о Манараге и еще не зная перевода этого названия, по темноте своей не ведая, что такое санскрит, повесть назвал "Гора Солнца". И так увлекся, что забросил почти готовый роман и наконец-то взялся за историю своего бывалого и неразговорчивого деда, Семена Тимофеевича.
***
На первом этапе основным источником информации стала моя бабушка Ольга Федоровна и отец, кое-что слышавший от деда. Со Второй мировой дед принес военный билет, где записаны номера винтовок, противогазы, шинели, полушубки - чуть ли не до портянок, а с гражданской ничего!
Хотя бы номер воинской части знать, фамилию офицера или вообще любого командира, когда-нибудь отдававшего письменные приказы. Почему ничего не принес - понятно, прибежал из разгромленной армии и вынужден был жить при враждебной и весьма агрессивной власти. Но как ни прячь, ни заметай, следы все равно остаются и возможно, где-нибудь в неразобранных или плохо изученных архивах есть документы, свидетельства или косвенные упоминания о некой белогвардейской команде (назовем это так), сформированной из интендантской и караульной рот для сопровождения какого-то обоза. Что везли, на скольких подводах, думаю, роясь в архивах, установить нельзя в принципе, тут никаких письменных следов быть не должно. Однако известно, команду посадили на лошадей, хорошо экипировали, вооружили, обеспечили фуражом, и пошла она с обозом с юга Урала (кстати, где воевал Чапаев-герой), на север, куда потом бросили Шестую Красную армию, спешно мобилизованную в Вологде.
Почему-то не верится, что это событие прошло совсем незаметно и не сохранилось ни в одной бумажке, например, среди приказов о выделении материальных средств, тягловой силы, оружия и фуража, где обязательно фигурируют конкретные фамилии. Все-таки, белая армия была регулярной армией с вытекающими отсюда формальностями. А также надо помнить, что разведка в красной армии была поставлена для того времени на очень высокий уровень за счет бывшего революционного подполья и еврейских организаций. Вряд ли этот неведомый обоз с командой сопровождения проскочил мимо нее, а значит, есть и некие оперативные сведения в виде секретных донесений и докладов. Победивший режим заботился о собственной истории (ведь принесли человечеству новую эпоху!) и скрупулезно собирал всяческие свидетельства своей победы и героизма. Иное дело, списочного состава обозников и охраны могло не существовать по многим соображениям, прежде всего, из соблюдения секретности.
Бабушка особенно не упорствовала, а хитро уводила внимание в другую сторону, сталкивала меня на историческую, но совершенно иную тему - о вятских переселенцах в Сибири. Обычно заяц делает таким образом: выходит на свежий лосиный след и сбрасывает на него собак.
Так красиво, образно рассказывала, что непроизвольно меня заразила.
Послушав ее несколько вечеров, вернулся в город и начал еще один роман "Рой". За неделю три главы написал и снова к бабушке, за порцией впечатлений - и еще три главы. Через два месяца только опомнился: у меня же "Гора Солнца" на первом месте!
Приехал в Зырянское, взял свою старую маму под микитки - рассказывай мне про дедову жизнь. А она в ответ: что у тебя за интерес такой? Зачем тебе прошлое ворошить? Коли взялся книжки писать, ну и пиши про сегодняшнюю жизнь, вон как хорошо стало: помню, как сохой пахала, а теперь ручку повернешь - газ горит! Опять отвлекала, прикидывалась довольной властью, а может по привычке опасалась, помня, что в милиции работал, как бы чего дурного не вышло. Батя же, напротив, радовался и так складно про жизнь своего отца рассказывал, что казалось, много чего сам домыслил и досочинил. Например, по его версии дед служил в колчаковской армии и на севере Урала оказался так - войска сибирского адмирала шли на Петроград не вдоль "чугунки", а северным путем, проходя тайгой и горами без дорог прямо-таки с суворовским размахом. Все было так на самом деле, и Шестую армию сформировали и бросили навстречу "железному потоку", чтоб остановить колчаковские войска, не пустить через Урал в Европу.
Все так, но закавыка в том, что дед никогда у Колчака не служил, поскольку мобилизовали его где-то в Нижегородской губернии, куда он с Вятки ходил со своим отцом и братом на заработки, бондарничали. Этого дед не скрывал, подчеркивая, что взяли не по доброй воле. Отца его отпустили по возрасту, а сыновей забрали, тут же посадили в эшелон и увезли неизвестно куда. И появился он только через два с половиной года, когда прибежал к невесте в Иранский уезд Вятской губернии (не так и далеко от Нижегородской), где он и попал в руки к ее брату Сергею.
Когда я возражал бате, объясняя эту ситуацию, он макушку чесал.
- Хрен знает... Мне сказал, у Колчака.
Сначала я думал, он ошибается, считая, что коль мы в Сибири живем, в "колчаковских" местах, так у кого еще служить? (С Вятки дед с бабкой переселились сюда во времена нэпа, поехали к своей родне, жившей тут со столыпинских времен.) Потом меня осенило - да мой пройдоха дед скорее всего успел послужить и у кого-то за Уралом, и у Колчака в Сибири, и еще у красных, хотя и в качестве носильщика, однако справку, что партизанил, от бабушкиного брата Сергея получил.
Это чтоб прикрыть белогвардейское прошлое.
Бабушка на этот счет отмахивалась:
- Да не знаю я, где его носило! Прибежал вшивый, лешак, сама видала. А больше ничего и не помню.
Но мало-помалу размякала, и память к ней "возвращалась". Однажды вдруг призналась, какой подарок принес ей с войны "вшивый" жених - глаза на лоб полезли. Золотой медальон, где на синей эмали (вероятно, финифть) была головка девушки с косой, будто бы портрет какой-то барыни или княжны. И сказал, дескать, очень уж на тебя похожа, так все время с собой носил и принес в подарок.
Я сразу по-ментовски: где взял? Моя старая мама (иногда мы так звали бабушку) мгновенно замахала руками, дескать, откуда я знаю?
Война была, может, нашел и поднял. Приносят же с фронта всякое богатство, вон твой дядька рулон красного немецкого хрома притащил, штаны и рубаху пошил и ходил скрипел, как дурак.
Однако спустя несколько дней без всяких назойливых вопросов бабушка рассказала, что за этот медальон в голодный военный год выменяла у одной еврейки в Зырянском мешок муки и привезла его на саночках за шестьдесят километров. Говорила грустно, горько, видно, все это время думала, вспоминала - дорог ей был подарок жениха. И я грех взял на душу, воспользовался ее состоянием, стал спрашивать про деда. Тут и выяснилось, что брат ее, Сергей, не таким уж твердокаменным и рьяным большевиком был, мало того, что партизанил в лесах за деревнями, где белых никогда не бывало, а еще с моего деда за жизнь взятку взял. На бабушкиных глазах дед распорол вшивую шинель (сожгли ее потом), достал целую горсть всякой золотой всячины с камушками и отдал Сергею. Тот поглядел, спрятал все в карман и только жемчужные бусы сестре сунул, мол, носи, мне ни к чему. А на деда поднялся еще пуще, дескать, ты в карателях служил, людей расстреливал и с мертвецов украшения снимал. Ну и поставил его под винтовку да увел с собой в лес. Бабушка такое услышала, перепугалась и бусы в речку бросила, а после жалела всю жизнь, потому как Сергей отпартизанил, вернулся и сказал, мол, погорячился он, не служил Семен в карателях и не расстреливал никого, так что выходи замуж и живи, никто его не тронет.
Видно, знал, что говорил, поскольку сразу же сделался начальником милиции и высоко поднялся, но в тридцать третьем его арестовали и расстреляли в один день. Ойкнуть не успели, брата нет. В тот же год и почти так же расстреляли маминого отца и моего деда, Алексея Русинова, но тут хоть явная причина была, скрыл происхождение (его отец был жандармом) и устроился работать секретарем райисполкома.
Помногу за один раз бабушка не рассказывала, в любом состоянии себя контролировала и терпеть не могла назойливости. Скоро я нашел лазейку к ее памяти: старая мама чуть ли не до смерти чай пила из самовара и потому к ней собирались старые подруги и бабушки с улицы, приносили узелочки с сахарком, конфетками-пряничками и усиживали пару ведер кипятка. Больше молодость вспоминали, старое житье, я же сидел тихо за перегородкой и слушал.
Они забывались, а то и вовсе не знали, что их подслушивают, начинали спорить, восстанавливая события давно минувших лет и в азарте проговаривались, выдавая семейные или вовсе интимные тайны. В общем, не святые они были, наши предки, и "самоходкой", без родительского благословения замуж выходили, и отраву подсыпали своей товарке, чтоб зачахла и чтоб потом ее парня переманить, и с чужими мужьями-женами любовь крутили. И вот когда старушки расходились, а мягкая, погруженная в прошлое бабушка, оставалась одна, я пил с ней чай до одури и получал очередную порцию информации.
Однажды я понял, что выжал из нее все, что мог, или точнее, что она могла рассказать. На остальном было табу, и если я напирал, старая мама сердилась, замолкала и убирала со стола. Я уезжал в город, полагая, что она соскучится и станет добрее, но бабушка, привыкшая жить под спудом вечной опасности и страха, умела держать язык за зубами.
***
Повесть "Гора Солнца" писалась трудно и долго - пять месяцев, поэтому я выложился весь, несколько дней не спал ни минуты, ходил опустошенный, потерянный и мысленно готовился ехать в Москву, в журнал "Наш современник", где уже была опубликована одна моя повесть. Но случилось событие непредвиденное, сравнимое разве что с солнечным ударом . Произошло это на двадцать седьмой год от явления Гоя, в начале снежного, холодного ноября.
Оказавшись снова бездомным, я поселился на квартире у цыганистой бабки в полуподвальной комнатке с люком в потолке, в проеме которого каждый день появлялась ворчливая хозяйка. Единственное окно было на уровне с землей, и выходило на разрушенную монастырскую стену, за которой в то время еще виднелись руины часовни над захоронением знаменитого местного пророчествующего старца Федора Кузьмина. По преданию (да и не только по нему, что доказали японские исследователи-графологи), на самом деле он был государем Александром I, по странным, никому не понятным обстоятельствам умершим в Таганроге и вдруг воскресшим в образе старца в Сибири.
В Томске он жил уединенно, в келейке, построенной собственноручно на угоре, с видом на широкую пойму реки Томи (там сейчас стоит памятник репрессированным в годы революции). Не прославился каким-то особым молельником или постником, напротив, говорят, мимо храмов ходил - шапки не ломал и лба не крестил, но народ к нему шел валом. И сюда же, по свидетельствам приближенных ко двору особ, тайно приезжал Николай I, чтобы удостовериться, в самом деле ли это его старший брат.
История умалчивает подробности их встречи, но известно, что он вышел от старца со слезами и в тот час же велел ехать.
***
Загадочная фигура Федора Кузьмича и так притягивала внимание, тем более, я все время смотрел из окна на развалины и близость его праха каким-то образом действовала на подсознание. Я все время помнил, что под грудой заросших травой и кустарником кирпичей могила перевоплощенного государя и это подспудно притягивало воображение.
Когда же закончил повесть и от перевозбуждения не мог ночами спать, часами бродил по руинам монастыря, стоял у могилы и однажды очутился возле соседнего дома, выстроенного торцом к нашему. Тут и увидел вросшую в землю чугунную плиту, которая лежала вместо первой ступени крыльца (раньше издалека казалось, камень).
Улочки кругом были немощеные, слякотные, так что о нее вытирали ноги, чтоб грязь в дом не тащить. И сейчас я рассмотрел наполовину стертые литые буквы, собственно о которые и шаркали подошвы. И мало того, прочитал плотную древнерусскую вязь, точнее, остатки ее, за многие годы сточенную ногами, будто наждаком - "...PAX БЛАЖЕН... СТАР...
ФЕОДОРА КОСМИЧА...". Вокруг текста была какая-то виньетка и еще несколько непонятных для меня тогда знаков, которые я принял за орнамент или украшение. И лишь по прошествию многих лет, когда стал вплотную заниматься алфавитами и азбуками, понял, что это могло быть руническое письмо.
Пожалуй, самой странной деталью, отмеченной еще тогда, было полное отсутствие каких либо христианских знаков. Коль надгробие, то уж обязательно должен стоять крест, тем паче, могила старца находилась в часовне!
Наверное, это обстоятельство и позволило приспособить плиту для дела непотребного, иначе набожные бабушки, жившие в этом доме, рассмотрели бы крест и не стали вытирать об него ноги.
Хочется же верить в благородство перевоплотившихся комсомолок тридцатых годов...
В одиночку поднять и унести плиту не удалось, весу в ней было центнера полтора, не меньше. Повозившись, я нашел отверстия по углам (когда-то плита привинчивалась к стене), пропустил через них проволоку и уволок надгробие за дровяники, где и оставил в присыпанных снегом лопухах до завтра. Однако наутро кража обнаружилась. Две бабушки, мать и дочь, два божьих одуванчика, по моим следам плиту отыскали и, ругая хулиганов, стоная и охая, вернули ее на место. Тогда я кликнул Кольку Конакова из розыска, человека, к истории неравнодушного, договорился, чтоб он приехал в форме и изъял надгробие. Тот явился на милицейском мотоцикле, настращал бабушек, мы погрузили плиту в коляску и повезли в музей. Странно, но надгробие не взяли, сказали, запасники и так забиты - пройти невозможно, выставить в экспозицию не разрешат, этот старец известен, как мракобес , да и вообще, наша плита исторической ценности не представляет .
И ездили мы с Колькой еще часа три по городу, предлагая плиту и краеведам, и Обществу охраны памятников истории и культуры; даже на историко-филологический факультет родного университета завернули - не берут! Хоть бабушкам возвращай, чтоб и дальше ноги вытирали.
Потом у нас созрела идея - вернуть надгробие на место, то есть, положить на могилу старца, а чтоб никто не утащил, закопать ее в руинах. Мы выгрузили его неподалеку от развалин, спрятали, после чего я под покровом ночи, чтоб никто не видел, разобрал битый кирпич в часовне до пола, под которым где-то находилась могила, положил в яму плиту и зарыл.
И с того момента я заболел думами о блаженном старце. Он воистину был чистым, святым, потому что возле праха его и раньше работалось очень хорошо, и на душе было светло, а тут образ Федора Кузьмича захватил все мои мысли. Что же должен был пережить, что увидеть и познать император, победивший самого Наполеона, покоривший Европу, чтоб вдруг отказаться от власти, славы и обрести иную жизнь, перейти в некое непознанное состояние странствующего ясновидящего старца? Что это?
Знание того, что в стране зреет заговор декабристов, предательство дворянской братии? Или исполнение обета?
Своеобразное искупление смертного греха - отца-то своего Павла убил, и если не собственноручно табакеркой ударил, то с его ведома или вовсе по наущению сгубили родителя, что еще хуже. А если жизнь его - повиновение року? И как на престол взошел, и в каком образе умер?
Почему плакал брат его, Николай, после встречи? Что сказал ему "воскресший" государь? Что напророчил? Не судьбу ли империи?
Мысль написать роман об Александре I, точнее, о его иной жизни, возникла спонтанно - сама судьба подводила, носом тыкала, вот он же, его прах, перед тобой!
И это ли не рок?
Еще не опомнившись от "Горы Солнца" и никуда ее не определив, я кинулся в университетскую научную библиотеку и выбрался оттуда через полтора месяца окончательно зачумленный. Вопросов появилось еще больше. Но многие ответы я уже "видел" в будущем романе. Например, уже мог объяснить непонятные действия Александра I к концу царствования, его попечительскую заботу о духоборах, которых гоняли и казнили все государи, а будущий блаженный старец вдруг дает им земли в Крыму на Молочных Водах и ездит к ним в гости. Православный государь благоволит к сектантам, восславляющим хлеб и соль и имеющим весьма слабое отношение к христианству. Божий помазанник вступает в некие отношения с теми самыми духоборами, которые рубят иконы, разрушают храмы (не в прямом смысле), и которых потом еще один радетель, Лев Толстой, вывез в Канаду.
Когда садился за рабочий стол, руки тряслись - так хотелось мир удивить, но на первой же главе случился затык. Знаю, что и о чем писать, и пишу, только герои мертвые, и "умерший" в Таганроге государь не оживает, точнее, не воскресает в образе Федора Кузьмича, ибо нужен определенный путь , чтоб уйти из одной и явиться в другой жизни и в новой ипостаси.
Сколько раз начинал и бросал в печь первые главы романа, сбился со счета, около четырех месяцев, глядя на могилу старца, вдохновленный и азартный, заново принимался за работу, чтобы, проснувшись наутро, полностью разочароваться. И ведь чувствовал, за существованием томского провидца кроется тайна, пока что непостижимая, не доступная, и надо бы понять это, осмыслить и успокоиться, однако взбудораженное сознание требовало словесного выражения.
И вот когда совсем отупел и уже не писал, а просто ночами метался из угла в угол, открылся люк в потолке и в проеме явилась квартирная хозяйка. Поначалу она заглядывала ко мне почти каждое утро: старая, полуразбитая машинка "Прогресс" стучала, как трактор, и хоть что ты под нее подстилай.
- Опять всю ночь чик-чик делал! - проворчала бабка то ли с цыганским, то ли восточным акцентом, хотя звали се Екатерина Адольфовна.
На сей раз она не ругалась, лишь посмотрела на меня и неожиданно спустила лестницу, чего никогда не делала.
- Ходи сюда!
Наверху я никогда не был, потому озирался с любопытством: с виду не очень-то чистоплотная хозяйка жила и ухоженном, обставленном старинной, явно купеческой мебелью, доме. Атласные чехлы на стульях, портьеры, занавески и кругом вазы, горшки и ведра с цветами на продажу - азербайджанцы привозили. На столе дорогой самовар сиял и китайского фарфора чайная посуда замысловатой и опасной горкой составлена.
Думал, чаю попить пригласила среди ночи, а она руки о медную самоварную трубу погрела, мне на голову положила и тут же отдернулась.
- Холодный! Покойник держит, ай, плохо ему сделал. Не смотри на могилу, на небо смотри!
Мне показалось, она знает, о каком покойнике я думаю и на чью могилу смотрю. Не по себе стало.
- Из моего подвала неба не видать, - сказал я.
Хозяйка показала на короткий диванчик с валиками.
- Ложись спать. Утром дальше скажу.
Помню, что сел на этот диванчик, остальное вылетело из сознания.
Проснулся только в полдень, и то потому, что затекла рука и скрюченные ноги, однако голова была светлая и состояние души возвышенное - давно так не спалось! Екатерина Адольфовна торговать не пошла, хотя иногда возила цветы в детской коляске, а спустилась ко мне вниз и теперь белила стены, чего за год моей жизни здесь никогда не бывало. Комната от угля и дымного выхлопа давно стояла черная. Я хотел помочь, однако она велела взять цветы и снести на могилку.
- Какую могилку? - спросил осторожно.
- Ай, не знаешь, на кого плиту железную положил? - по-цыгански спросила она. - Кого в гробу разбудил?... Возьми хорошие цветы, красивые возьми да к ногам брось.
Эта глазастая хозяйка все видела и знала! В замешательстве, я выбрал четыре красных гвоздики, но потом решил, что неловко нести праху государя революционные цветы и заменил их на белые. На руинах часовни лежал снег, и я долго и тупо соображал, как определить, где тут голова и где ноги, когда неизвестно, как расположена сама могила.
Пока не вспомнил, что хоронят головой на восток. Цветы я положил на снег с облегчением ушел в свой подвал.
В тот же вечер в освеженной, побеленной комнате сел за машинку и начал "делать чик-чик". И все пошло! Зрительно мне виделся белобородый, спокойный старец, опершийся руками на суковатую палку, который будто нашептывал на ухо, а я едва успевал записывать.
Оказалось, раньше я не мог ответить себе, каким образом и через что прошел добровольно оставивший трон государь, чтоб стать блаженным и ясновидящим . Ну конечно же, в Таганроге к императору явился Гой и убедил встать на иной путь. Почему именно Александр удостоился такой чести? Да потому, что его опека над духоборами была замечена. То есть, эти сектанты каким-то образом связаны с Гоями: не случайно, как символы веры, они держат хлеб и соль!
Убедил, а возможно, и убеждать не пришлось, ибо государь, испытавший все, от отцеубийства до лавров победителя мирового значения, откровенно тосковал от рутинной дворцовой жизни, тяготился властью и не желал видеть, как братьев его, именитых князей, вступивших в заговор, будут вздергивать на виселице. Полковник Д., бывший с ним в Таганроге, помог инсценировать смерть, а Гой увел его через три границы, за три моря, на реку Ганга...
И уже оттуда Александр вернулся пророчествующим старцем.
Это был закономерный, логически обоснованный и достойный путь от власти земной к духовной. Не зря заплакал Николай!
Единственное, что я не мог найти в университетской научной библиотеке, это более-менее подробное описание того, что есть духоборчество и сами духоборы. Точнее, какая-то литература была, однако находилась в спецхране и без специального разрешения не выдавалась. Впрочем, и это было свидетельством некого особого отношения к сектантам, хотя советская власть должна была относиться к ним в худшем случае снисходительно, поскольку духоборы, вывезенные Львом Толстым в Канаду, поклялись вернуться в Россию, когда не будет царя. Вроде бы, попутчики большевиков, ан нет же, не вернулись, и сами большевики держали информацию о них чуть ли не в секрете.
Одним словом, для романа о ясновидящем старце (названий было аж три варианта - "Феодор Космич", "Старец Александр I", "Блаженный ясновидец"), годилось и было полезно все, и особенно, отсутствие или умышленное утаивание всякой информации. На следующий год в конце мая я поставил точку и чтобы не искушаться, не дай Бог, не испытать разочарования, не перечитывая, спрятал рукопись в тайник под полом и уехал в Зырянское, где не был больше года.
А там бабушка заболела и лежала пластом в окружении своих митюшанских подруг. Как-то сразу померкла, ослабла, исчезли властные нотки в речи, говорила тихо, обреченно, и держалась за мою руку.
- Что же приезжать-то перестал, лешак? То каждую неделю был, то пропал, ни слуху, ни духу. Думала, уж не увижу... Или обидела чем?
- Да нет, работы было много, - залепетал я под осуждающими взгляды сиделок. - Только освободился...
- Вот врет-то! - возмутилась баба Таня Березина. - Слыхали мы про тебя тут! В тюрьме ты сидел год, за тунеядство. Вот и освободился. А то - работы много!
Это была не деревенская выдумка или сплетня, слух оказался не беспочвенным, только меня еще не сажали, но собирались привлечь за тунеядство. Дело в том, что я не был членом Союза Писателей, а бросил работу в газете и ушел на "вольные хлеба", а это не понравилось одному томскому поэту по фамилии Заглавный, который и пытался отправить меня в тюрьму. Говорят, даже заявление в милицию отнес, только там мои бывшие сослуживцы его "потеряли".
- Ступайте-ка домой! - велела бабушка товаркам, вдруг обретя голос. - Теперь внук посидит.
Старушки послушно удалились, и я сообразил, что настал желанный час. Она сама начала рассказывать, причем сразу с самого главного.
Правда, оговорилась со вздохом, мол, зачем тебе это нужно? Дед всю жизнь в беспокойстве прожил, все рвался из дома, будто на заработки ездил, а сам золотую рыбку ловил да ничего не поймал, и ты по той же дорожке пойти хочешь. Дескать, зачем-то перед смертью взял да и свел внука с ума. Золото - дело заразное, и сколько народу сгинуло из-за него...
Но выговаривала и рассуждала больше для себя, поскольку мне и оправдываться не пришлось: бабушка без всякой паузы и как-то горько поведала мне то, что скрывала всю жизнь.
Дед получил повестку на Вторую мировую в сорок втором и сразу же сказал жене примерно следующее, причем, как всегда жестко, спокойно и без суеты:
- Ну, Оля, давай прощаться. Если я с двух войн невредимым пришел, на этой ухлопают обязательно. Так что ты расти сына, сильно обо мне не горюй. Писать не буду, чтоб лишний раз не расстраивать, чтоб ты смерти моей не ждала с часу на час. Думай, нет меня больше и все.
Об этом я уже слышал и не раз в самых разных интерпретациях, но никто и никогда вслух не говорил о том, что у этой прощальной речи есть продолжение. Моя ревнивая бабушка заподозрила, что он после войны решил уйти к другой - ну, чисто женская логика! (Впрочем, кое-какие основания у нее были). Она рассуждала иначе: коли с двух живым пришел, то и сейчас-то что с ним сделается? Ну и давай его пытать, чтоб дал полный отчет за прошлую войну, где был, что делал, с кем жил и не оставил ли опять где-нибудь потомства. У нее было подозрение, что дед и гражданскую нашел себе какую-то богатую женщину, пожил с ней, а потом украл ее драгоценности и дал деру. Уж слишком молчаливый прибежал, слова не добьешься.
Наверное, дед отчитывался кратко. Говорит, я перед тобой, как на духу скажу, на предыдущей войне не было женщин у меня, и детей нигде не оставил. А служил я на Соль-Илецкой станции каптером в интендантской роте, хорошо, говорит, добра всякого было много, так что сыт и пьян каждый день. Но тут взяли всех людей с роты, кто на империалистической воевал, прибавили к нам караульных, обули-одели, на коней посадили, вместо старых ружей новые дали, хорошие, всякого боевого припаса полные сумки наложили и с тремя офицерами пошли через Уральский хребет, к Колчаку. (Вероятно, это был 1919 год, где-нибудь, до июня, поскольку позже Колчака на Урале быть не могло.) Там у него обоз стоял, готовый к отправке, с охраной - близко не подойдешь, и вот офицеры между собой повздорили сильно, за наганы хватались. Дед уж решил, погонят куда-нибудь в глубь Сибири с этим обозом и когда еще домой вернешься? Бежать надумал, как только в Томскую губернию зайдут, мол, к родне, переселившейся с Вятки, а они спрячут. Но скоро приехал какой-то генерал колчаковский, своих офицеров и охрану убрал, поставил ездовыми интендантов, караульных в охрану и командовать назначил тоже наших офицеров. Вот, говорит, мы и отправились на север, и ехали по проселкам, тропам, а то и вовсе бездорожьем до конца лета, через хребты, горы и реки на себе перетаскивали и поклажу, и телеги, и чуть ли не самих коней. Вот уж намучились-то, и чуяли, на смерть гонят, да не сбежишь, караульных подобрали отпетых, злые, как собаки цепные.
Ружья у ездовых отняли, даже ножики забрали от греха подальше и на ночь под охрану садили. Наконец, встали на озере среди гор, возы разгрузили и в камнях спрятали, коней отвели подальше в лес и отпустили, оставив только трех для офицеров - кормить нечем было. Все телеги утопили, а сами лачуг понастроили, нор нарыли и просидели несколько месяцев. Провизии не было, так оставшихся коней съели, потом голодать начали, из-под снега траву копали. Отощали, но убежать нельзя, караульные сразу застрелят, и не одного так убили. Все будто ждали англичан, которые из Архангельска должны прийти, но не дождались, оставили поклажу всего с пятью солдатами-караульными да двумя офицерами, умельцы наделали лыж, встали на них и сами пошли к англичанам. А те уже на корабли грузятся, бежать собрались. Команду всю с собой решили взять, чуть ли не под конвоем на судно завели. Так что ни у какой бабы он не жил и никого не обворовывал, а драгоценности ему дал офицер, приказав, чтобы он в сопровождении прапорщика спустился на берег, нашел и закупил провизию в Архангельске. Англичане кормить ораву русских не хотели, мол, у самих ничего нет, как доплывут до своей Британии, неизвестно.
Дед сошел на причал, тут же договорился с прапорщиком, которому тоже не хотелось плыть на чужбину, и убежали они оба в родные края.
Тот прапорщик по фамилии Кормаков, жил в городе Тотьме Вологодской губернии.
Вероятно, для бабушки это звучало убедительно, в неведомую Тотьму она не поехала и отпустила деда на фронт с легким сердцем.
А он там с какой-то Карной связался...
***
Зато в эту Тотьму, посидев возле постели бабушки три дня, рванул я, взяв командировку в обкоме ВЛКСМ - якобы в Москву, чтоб поработать над рукописью новой книги. Но не за красивые глаза дали - я пообещал, что в августе поеду комиссаром конного агитотряда (давно предлагали), агитировать колхозников убирать урожай. До столицы летел самолетом, оттуда поездом, и все в один день. Раньше я лишь проезжал вологодчину по пути в Коми, точнее, до станции Косью, и относительная близость к Уралу меня волновала всю дорогу. Появлялись мысли, при удачном раскладе, прыгнуть на поезд и уехать дальше: командировочные можно сэкономить, использовать деньги на обратный путь, так что дня на три-четыре можно вырваться к заветной Манараге. Но ехал налегке (с обрезом в самолет не пустят), а без оружия ходить по Уралу зарекся.
Экономия не получилась: из Вологды в Тотьму пришлось лететь на АН-2 - дороги оказались ужасными и автобусы не ходили. А в самолете, используя оперативные навыки, провел разведочный опрос попутчиков и выяснил, самый древний старик Кормаков живет где-то на Леденьге, если, конечно, не умер. Выходило, мой дед бабушку не обманывал и уходил на фронт с чистой душой. Эх, будь он жив, намного было б проще, и сейчас с собой взял бы, чтоб встретились однополчане-белогвардейцы!
Да ведь и ехать сюда не пришлось бы...
Деревянная Тотьма оказалась тихой, задумчивой, и река Сухона текла такая же, с деревянными от леса берегами (недавно еще лес сплавляли). Люди здесь тоже были такими же негромкими, задумчивыми и медлительными, словно жить собирались лет по триста. Старика Кормакова я нашел скоро, но он оказался древнее, чем надо - девяносто шестой пошел, а дедову однополчанину должно быть меньше восьмидесяти. Однако поспрашивал его о родственниках, прикинувшись журналистом (благо, что редакционное удостоверение не сдал), и выяснил - есть такой, живет на Песьей Деньге и зовут Алексеем Алфеевичем или просто Олешкой-малым, потому как есть еще один Олешка Кормаков на Еденьге.
Названия речек меня зачаровали, за их звучанием слышался некий древнейший и могучий язык, хотя попутчики в самолете говорили, мол, названия у нас не русские, все больше вепсские (тогда я даже не слышал о такой народности - вепсы) или вовсе татарские. И перечисляли - Кокшенга, Тарнога, Кичьменьга, Амга, Айга, Вохтага, Вожега, Еленьга и еще десятки, едва успевал записывать.
Песья Деньга оказалась деревней дворов на тридцать, издалека смотришь: солидно, крепко, дома словно терема на угоре, а ближе подойдешь, ах ты, как жалко - жилых-то всего четыре, остальные стоят бесхозными, темными и холодными, как могильные склепы. Сам Алексей Алфеевич с утра ездил за пенсией на центральную усадьбу колхоза, напился и спал беспробудно, зато его сосед был трезв, благоразумен и деловит. Зазвал к себе на завалинку, спросил, кто и откуда, после чего начал докладывать. Выходило, Олешка Кормаков хоть и пожилой, но дурной человек, потому что всю жизнь просидел в лагерях, и даже на войну его не брали. В колхозе ни дня не работал, то на заработки будто бы ходит, то на прииски подастся. Это последние лет пятнадцать он в деревне живет, да и то как сказать - болтается туда-сюда. Оттого пенсию дали по старости. Пришла тут к нему женщина с Леденьги, уж до чего хозяйственная, домовитая! Говорю, пойдем ко мне жить, на что тебе эдакой срамной мужик? Нет... Интересный, говорит, Олешка-то, с ним не соскучишься... Вот и не соскучилась, года не прожила, убежала... В общем, зря живет на свете и писать в газету о нем не нужно.
Когда же я спросил, мог ли он служить у белых в гражданскую да еще прапорщиком, трезвый сосед ответил определенно - служил! Да уж всяко не прапорщиком, а каким-нибудь карателем. И потом всю жизнь еще вредил Советской власти, за что и не выходил из тюрьмы.
Я ушел на речку, забился в кусты и кувыркался в траве от восторга.
Олешка проснулся только вечером и несмотря, что я томлюсь на лавочке возле дверей его избы, прошел мимо, в огород, и стал полоть картошку. На свои примерно семьдесят семь он не выглядел, шестьдесят от силы, и на запойного человека не походил: белесые густые брови, глубоко посаженные глаза, словно из-под выворотня смотрит. Редкие бесцветные волосики дыбом, и рот приоткрыт, словно сказать что-то собирается. Однако молчит, а лебеда у него на огороде выдурила по грудь, поэтому он задумчиво огляделся, выдернул один сорняк, долго рассматривал корень, плюнул и пошел в избу.
- Алфеич, поговорить бы надо, - по-свойски сказал я вслед.
Не услышал, зачем-то забрался на чердак, судя по звукам, перебирал что-то, искал, пока не долбанулся башкой о стропилу - аж крыша загудела. Выматерился, слез и наконец-то увидел меня.
- Не нашел я, нету. А была где-то...
- Что ты не нашел?
- Да икону...
Похоже, он принял меня за собирателя икон: это был период, когда по деревням ездили сотни прохиндеев, часто на вид вполне интеллигентных, и скупали, а то просто воровали иконы, лампадки, подсвечники и прочую религиозную утварь.
- А я ведь к тебе не за иконами пришел! - Подал я ему руку. - Здравствуй, Алексей Алфеич.
Он свои руки в карманы сунул, подозрительный, пытливый и одновременно настороженный взгляд его был знаком - так смотрят люди на зоне.
- Ты откуда, парень?
- Я внук Семена Тимофеевича Алексеева, из Сибири приехал, - доложил я.
Олешка никак не среагировал, пустое для него было имя или так тщательно скрывал чувства.
- Ну и чего?
По дороге я разработал две легенды, которые собирался применить, исходя из обстановки, но однополчанин деда оказался слишком закрытым, чтоб сориентироваться и сделать выбор.
- А ничего. К тебе вот прислал, спросить, как здоровье, как живется-можется... - Это была первая легенда, будто бы дед жив.
- Да нормально живется... - он еще глубже забирался под свою корягу. - Картошка вон заросла, полоть некому...
- Что-то ты не понял, Алфеич, - надавил я. - Поди, голова с похмелья трещит?
- С какого похмелья? Я не пил.
- Ну да, не пил! А спал, как убитый.
- Я всегда так сплю. Пешком ходил, притомился... Ты зачем пришел-то?
- Да, постарел ты, Алексей Алфеич туго соображаешь. Понял хоть, кто меня послал?
- Кто?
- Семен Алексеев.
Он не думал ни мгновения, ответил сразу.
- Не знаю такого. Какой Семен?
- Архангельск помнишь?
- Ну, есть такой город.
- Бывал там?
- Бывал... - голос его стал вибрировать. - И не раз. А что?
- Ничего. Помнишь английский корабль? Всю команду увезти хотели, а вы с ним пошли на берег продовольствие закупать? Офицер вам золота отвалил, женских украшений. Кольца, серьги с камушками, медальон с женской головкой, жемчужные бусы. Помнишь? А вы деру дали.
Он обязан был хоть чем-нибудь откликнуться на такую информацию и убедиться, что я не с улицы пришел, а кое-что знаю до мельчайших деталей. Но Олешка ответил не задумываясь:
- Не помню.
Своей простотой он обезоруживал, хотя был совсем не деревенский простофиля, и это выдавало в нем сильную личность, тонкий, подвижный ум и мгновенную реакцию защиты. Если он воевал в белой армии прапорщиком, то есть, младшим офицером, значит, получил образование, к тому же прошел следственные и лагерную школы - так что с кондачка его никогда не взять и подходов не найти, запрется и хоть ты пташкой пой, хоть вороном кричи, ничего не добьешься.
Это не бабушка, больная и размякшая от воспоминаний.
- Ладно, - согласился я. - Раз не помнишь, тогда и разговора нет.
Извини, что побеспокоил, Алексей Алфеич. Так и скажу деду - не помнит ничего, старый стал, память отшибло.
Трезвый сосед оказался еще и любопытным, все на улице торчал, видно, послушать хотел, но мы говорили негромко и чувствовалось, остался разочарованным. Я попросился к нему переночевать, дескать, солнце садится и вряд ли поймаешь попутку до Тотьмы, встану утром и пойду. Сосед этому обрадовался, домой повел, по-холостяцки засуетился у печи и между делом спросил, мол, а что, Олешка-то к себе не пустил?
- А я и не просился к нему, - заметил я. - Темный он человек, скрытный, а потом, у белых служил, в тюрьмах сидел...
- Он еще в карты играет, на деньги! - доверительно сообщил сосед.
- Уходит куда-то с котомкой, а возвращается при деньгах. Раньше бывало, на тройке приезжал назад. А то в исподнем прибегал, ночью. В лагерях всему дурному научат.
- И сейчас играет? - между прочим спросил я.
- Как же! Вот погоди, недели не пройдет, как у него зачешется.
Узнать бы, где они собираются да накрыть.
Сосед наверняка принимал меня за переодетого милиционера.
- Это нехорошо! - назидательно сказал я. - Но пусть люди играют, если хочется. Не наше дело.
Он сразу сник, обескуражено затих, выставил на стол картошку "в мундире", плошку соленых рыжиков и подсолнечное масло.
- Давай, поешь. Я-то ужинал... Пока телевизор посмотрю, сегодня показывает.
Уткнулся в моргающий ящик и больше головы не повернул. А я за вечер дважды выходил на улицу покурить, ждал. Может, не выдержит Олешка, если он тот самый прапорщик, придет спросить, зачем это меня дед к нему послал.
Не пришел. На утро я поторчал возле молчаливого трезвого соседа, простился с ним, поглядывая на окна дедова однополчанина и не спеша двинул по берегу Песьей Деньги к дороге - Олешка даже носа не показал.
Неужто не он?
Зато выскочил из-под деревянного моста через речку, как разбойник - уже в трех километрах от деревни.
- Стой. Ты куда пошел?
- В Тотьму.
- Иди сюда. Не бойся.
Он зазывал меня под мост. Наверное, караулил меня тут всю ночь: костер жег, лежал на травяной подстилке, ковшичек из бересты сделал, воду пить - жажда мучила...
- Зачем дед ко мне послал?
Теперь он задавал вопросы, и надо было отдать ему инициативу, прикинувшись не особенно посвященным в их дела, но жадноватым внуком, который помимо воли деда хочет узнать побольше про дела давно минувших дней.
- Привет передать. Спросить, как живешь, где бывал, что видал.
Олешка ухмыльнулся и вдруг, схватив меня за щеку, так завертел кожу, что от боли слезы навернулись.
- А вот врать мне не надо, внучок! Потом отпрянул, вгляделся в меня, будто в зеркало, и проговорил знакомым, вибрирующим голосом:
- Ну, как ты на деда похож... Две капли воды.
Обоз
Все-таки дед много чего утаил от бабушки. А может и нет - просто спешил на сборный пункт, на свою последнюю войну и лишней, не касаемой женщин, информацией не стал нагружать жену.
Если верить Олешке Кормакову (а мне ничего другого не оставалось), то бежать с английского корабля они договорились еще на борту, только надо было причину найти. Охраняли их не знающие ни слова по-русски негры-солдаты, так что договориться было невозможно, подкупить нечем, а карабины и даже ножики и у караульных отняли, дескать, у англичан на судне не положено быть с оружием, оставили наган только офицеру, а у Олешки отняли, хотя он прапорщик и вроде тоже офицер
Искате да прочетете повече?
Присъединете се към нашата общност, за да получите пълен достъп до всички произведения и функции.
© Леснич Велесов Всички права запазени